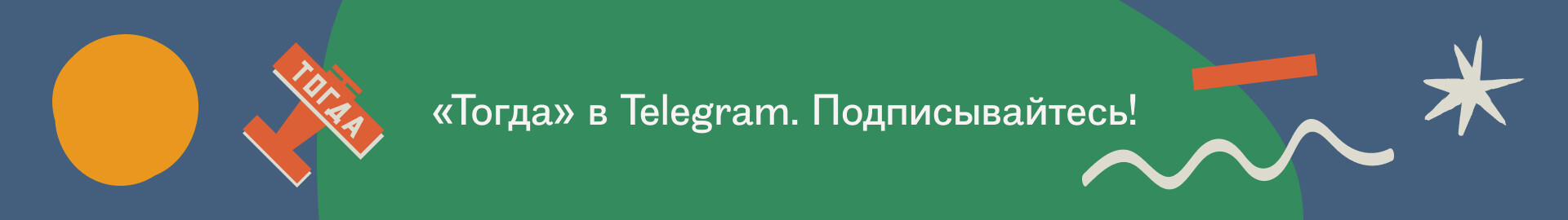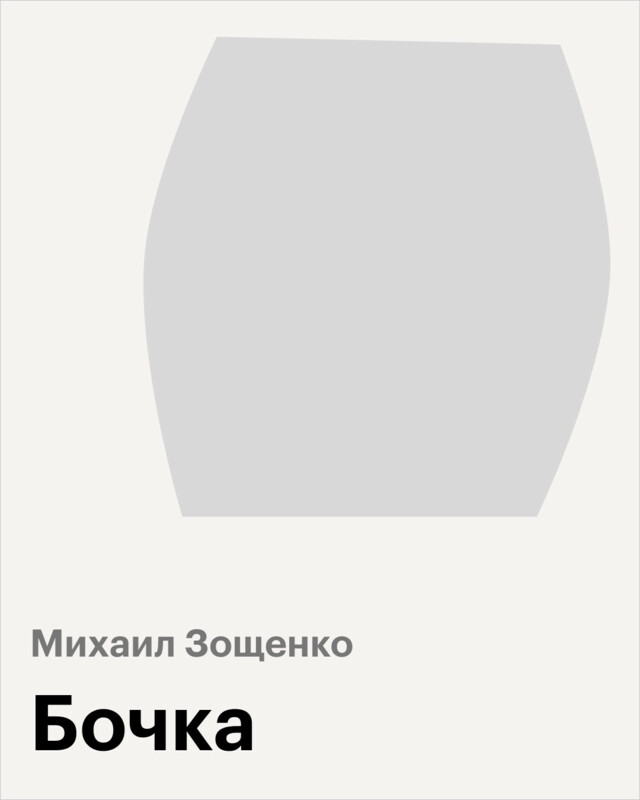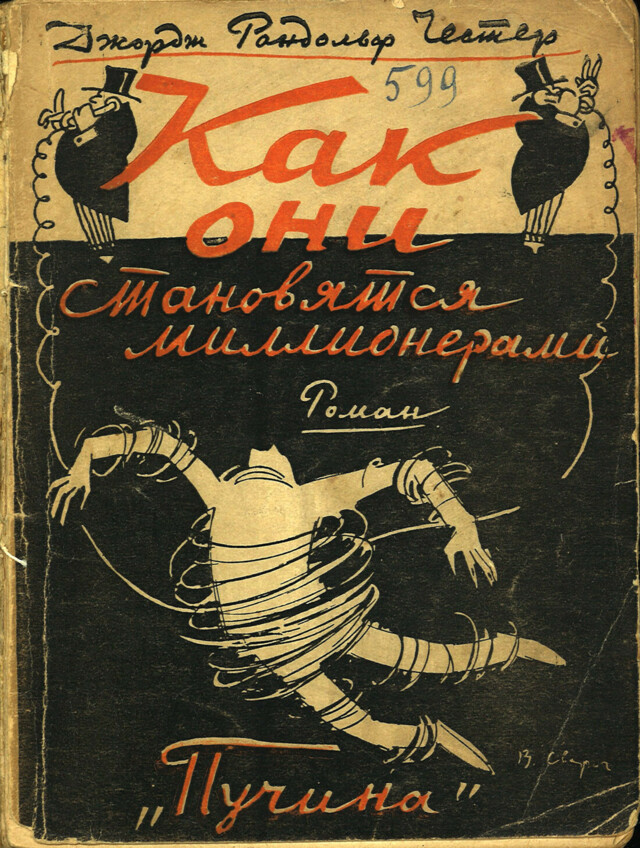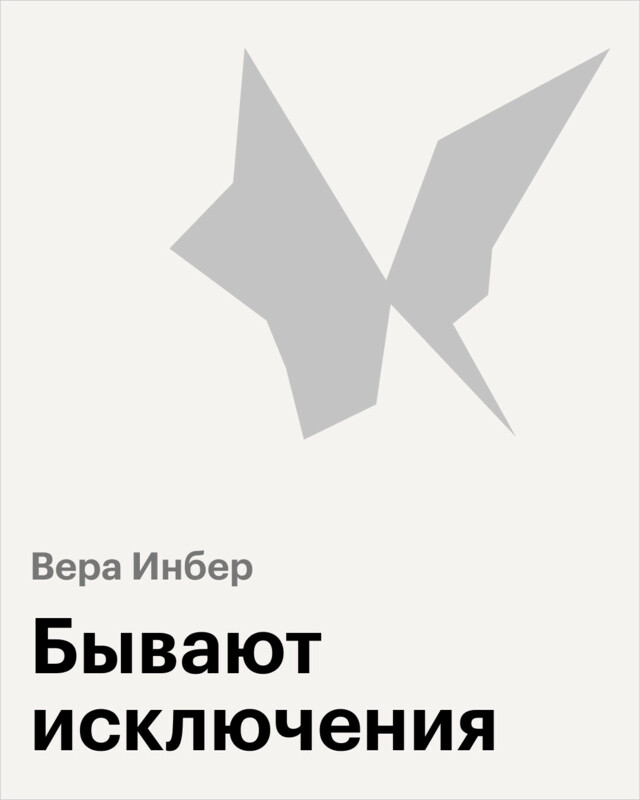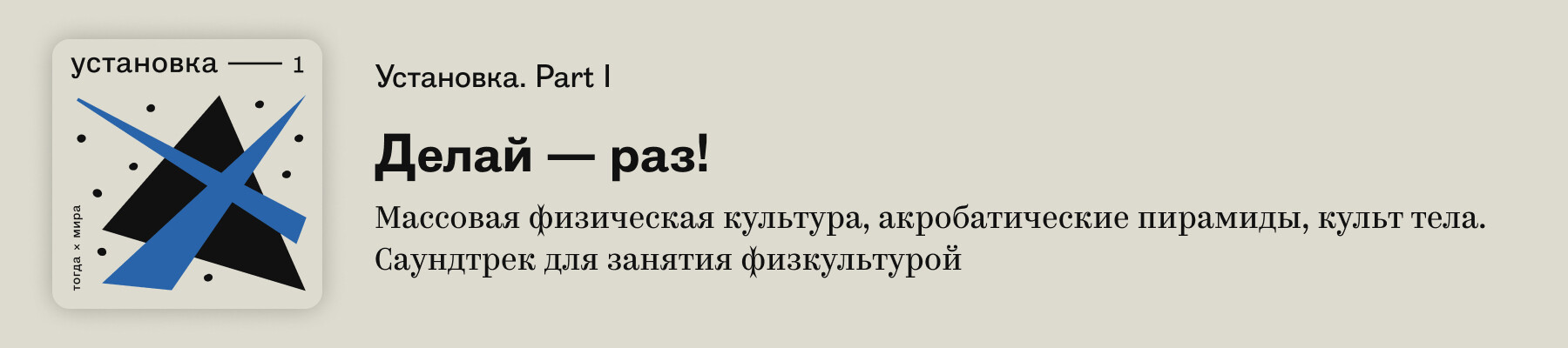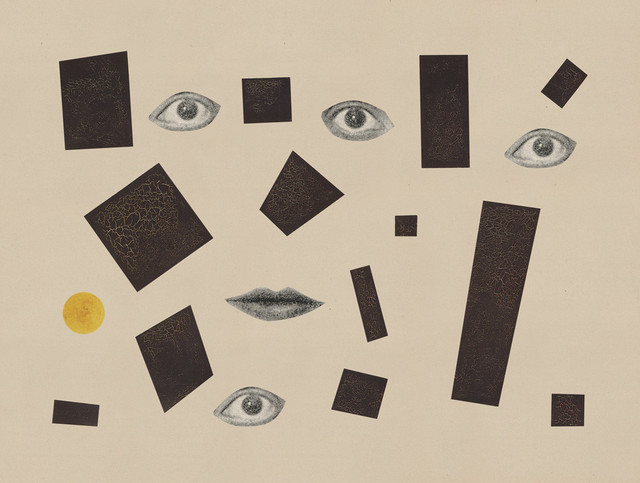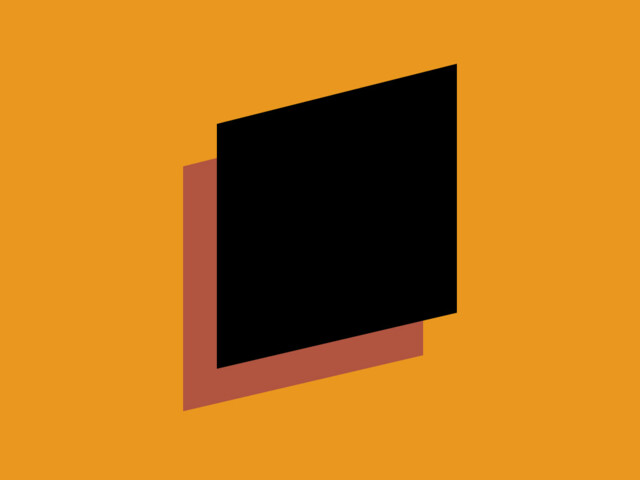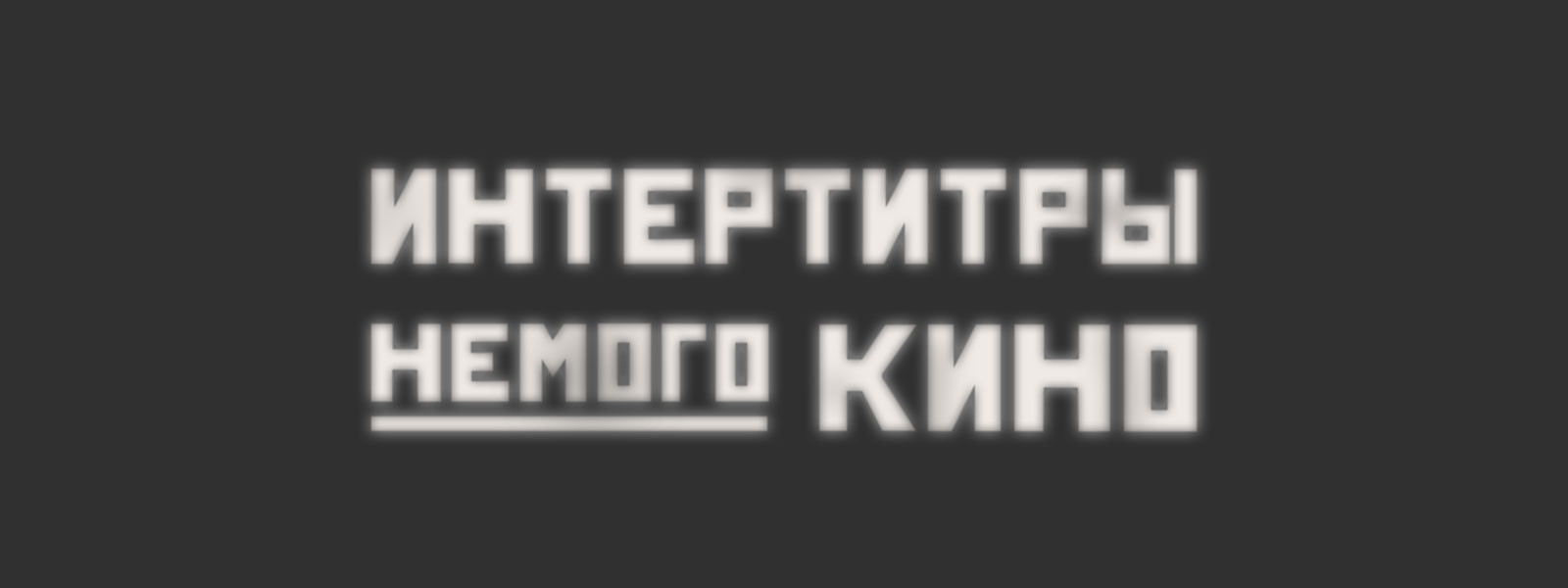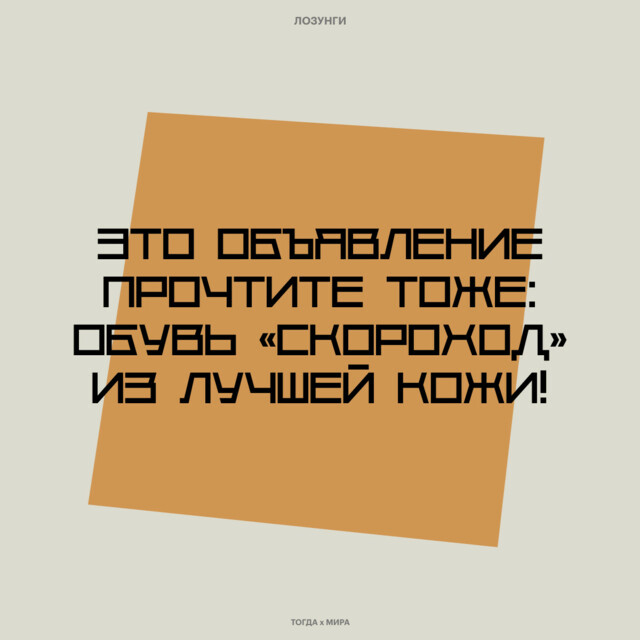«Деловые птицы». Георгий Никифоров

Когда это было, — точно неизвестно. Вздумалось, однажды, Боевому Воробью, проверить, кто и что делает; собрал он молодежь и полетел насиженные гнезда осматривать. Видит Боевой Воробей — суетится и шумит птица, каждая о чем-то хлопочет, а толку нет. Только и заметно одно: растут, строятся гнезда, и старается тут его друг Скворец. Посмотрел Боевой Воробей, полюбовался строительством и отправился отыскивать бездельников, развелось их, к тому времени, видимо-невидимо. Летит Боевой
Воробей по глухим местам (город, дескать, всегда на глазах, в городе делать нечего).
Все лесные дебри посетил, все степные края обследовал. Встретил он Кукушку.

Кукует птица на старый лад, по-прежнему пророчествует, и по безграмотности путает время. Хотел было Боевой Воробей расспросить ее, что она знает и что видела, да уж очень глаза у кукушки глупые, — ни одной мысли в них нет. Уставилась кукушка в одну точку и, знай себе, твердит:
— Ку-ку, ку-ку!..
«Экая тупица» — подумал Воробей.
— Посмотрите, товарищи, — обратился он к молодежи, — перед вами музейный экземпляр: который год теперь революция — и хотя бы одну новую песенку разучила, дурища!
Посмеялась молодежь.
— Чорт с ней! — сказали все. — Недолго куковать осталось: докукует последнее колено и подохнет...
Любовались молодые воробьи и перепела широтой степей, игрой серебристых рек; видели они высокие горы, отдыхали в дремлющих рощах, плутали в лесных зарослях, тут и столкнулись, однажды, с лесовиком Дятлом. Долбил Дятел кору дуба, и отыскав червячка, покрякивал от удовольствия.

— Эй, милый друг! — крикнул ему Боевой Воробей, — не пора ли тебе из лесу на простор, поближе ко всем птицам?
— Поищи другого дурака! — сердито ответил Дятел. — Я научной работой занимаюсь, мне и тут хорошо. Была забота путаться с вами! Вы сами по себе! Я сам по себе!
«Анархист, должно быть»! — подумали перепела.
— Сумасшедший! — чирикнули воробьи
— Хо-хо! — загрохотал Дятел. — Меня не проймешь этим. Я птица независимая: куда хочу, туда лечу, что хочу, то делаю.
— А что же, все-таки, ты делаешь? — спросили Перепела.
— Сказано — научной работой занимаюсь, — ответил Дятел. — Лес чищу, статистику веду, — сколько черви деревьев испортили. Вам не мешаю и не люблю, когда ко мне лезут.
— Оставим его, — сказал Боевой Воробей, — пусть своим делом занимается.
Птица, кажется, невредная.
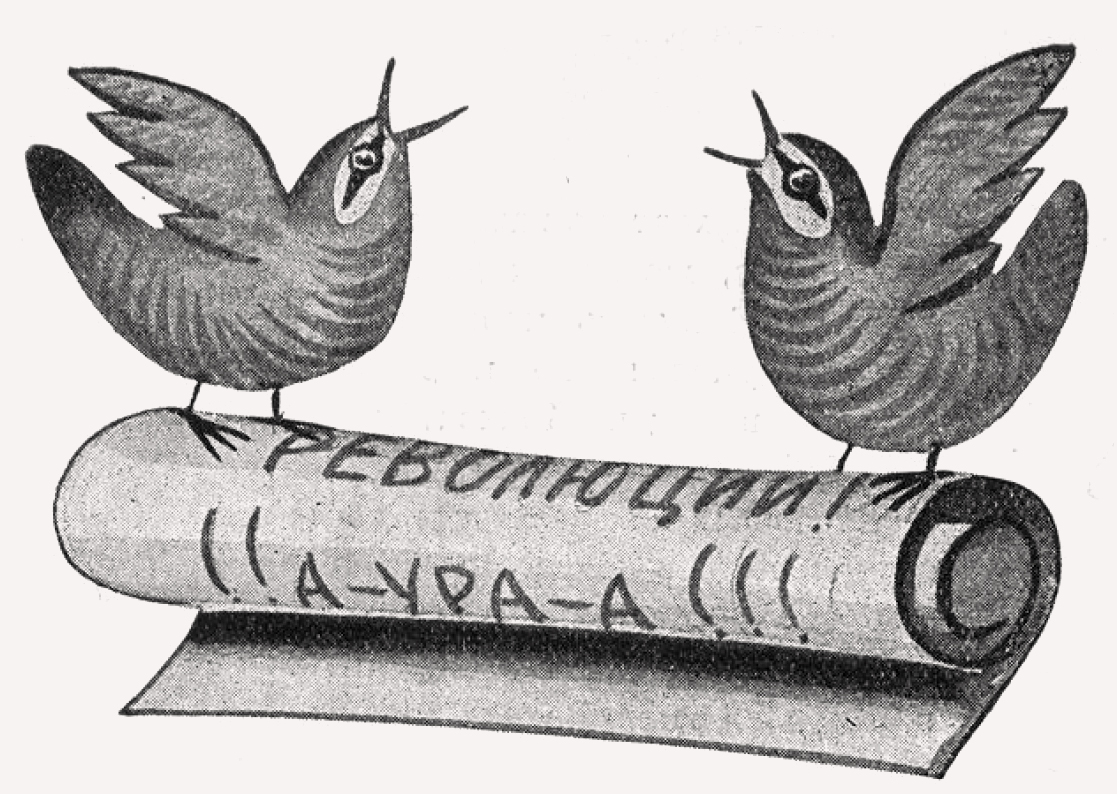
Обследовал Боевой Воробей с молодыми друзьями далекие окраины и захотел вернуться в город.
Зеленый май по полям гулял, рассыпая по земле веселые цветы, а в городе, в это время, готовились к встрече Боевого Воробья. Каждая птица свое дело торопилась выучить наизусть и на примерном экзамене отвечала без запинки.
Начальник управления — Дрозд, сочинил инструкцию, как нужно держать себя с Боевым Воробьем, чтобы не вызвать подозрения и не оскандалиться.
В суете и спешке многое перепутали. Трясогузку, например, в журнал «Держи хвост по ветру» посадили. И хотя Трясогузка в деле сочинительства не смыслила, зато ловко сотрудникам подмигивала и не смела отказаться потрясти хвостом, если просил кто, — уж такой, видно, у нее добрый характер был. Дня не прошло, как она свыклась со всеми и даже прозвище от Чижа получила: «Трясогузочка утоли моя печали!»
Овсянку, бедную сиротку, в суматохе совсем позабыли, и сидела она по-прежнему на заброшенном кладбище, проливая слезы в горькую полынь, и никому-то не было до нее дела, — живет себе и живет, плачет и плачет. «Мало ли таких на свете мается, —рассуждали деловые птицы, — всех не устроишь, самим дай бог устроиться».

Прилетел Боевой Воробей в самый разгар.
«Что за история! — удивлялся он, глядя на общую суетливость. — Неужели проведать успели, что я проверять их собираюсь»?
Чтобы захватить каждую птицу на своем деле, сделал он знак молодым друзьям. Кинулись перепела и воробьи по управлению и заняли все входы и выходы. Прихватил Боевой Воробей старого приятеля Скворца и явился как раз тогда, когда все птицы были в сборе. Оглядел Боевой Воробей растерянные лица и приступил к делу. Первыми были опрошены крапивники. Задрав хвосты, они метались из стороны в сторону и все‚ хотели скрыться.
— А ну, свистуны, — остановил их Боевой Воробей, — рассказывайте, о чем вы тут горлопаните?
— Фью-тю-тю! Фью-тю-тю! Во-первых, мы не свистуны, — попробовали обидеться крапивники, — а во-вторых, довольно странно, товарищ Воробей, слышать подобный вопрос! Вы же отлично знаете, что мы сочиняем...
— Ах, вы сочиняете! — прищурился Боевой Воробей. — Расскажите-ка, что вы там сочиняете?
— Мы сочиняем стихи о революции и поем их на собраниях.
— Очень хорошо! Когда же вы начали сочинять революционные стихи — до революции или после революции?
— То есть как это до революции? — хором затрещали крапивники. — До революции вообще не было никакой революции. Как же мы могли сочинять тогда о революции?
— Значит после революции? — продолжал допрашивать Боевой Воробей.
— После нашей Великой революции! — внесли поправку крапивники.
— Я хочу слышать, как вы поете о революции! — выразил свое желание Боевой Воробей.
— Фью-тю-тю! Как мы поем? Мы громко поем, фью-тю-тю!

И, прокашлявшись, крапивники запели:
Наша победа —
победа
всех стран,
Громче греми, барабан!
Бум!
Бом!!
Ан!!!
Свалились, упали,
Не встанут тираны —
Стучи в барабаны! —
и тут вот
и здесь!
Бум!
Бом!!!
Тррресь!!!!
— Гм, джип -джип! — неопределенно произнес ошарашенный шумом и треском, Боевой Воробей и, улыбнувшись, шепнул Скворцу:
— Запиши, друг, этих революционных барабанщиков, что-то мне они подозрительны, уж очень здорово стараются, — неспроста это...

Тут Боевой Воробей заметил сидевшего в отдалении Дрозда, и, подойдя к нему, спросил:
— Скажите мне, гражданин начальник управления, чем занимались вы до революции?
— До революции был правителем канцелярии у Орла, — гордо ответил Дрозд. — Ныне, как вам должно быть известно, пишу циркуляры...
— А я составляю сметы по хозяйству и тому подобное, — не дожидаясь, когда его спросят, подскочил с объяснением, Снегирь.
Стоило только начать Снегирю, как сразу полезли все, перебивая и мешая друг другу. Того порядка, какого хотел Дрозд не было.
Каждая птица, желая удержаться на занимаемом посту, спешила показать себя с самой лучшей стороны, но, перечисляя свои заслуги, птицы путались и городили околесицу, и чем больше говорили они, тем отчетливей была их никчемность и фальшь их уверений.
Дрозд был смущен; он посерел от злости и волнения, однако из чувства самосохранения и необходимости поддержать своих подчиненных, он всеми силами старался сохранить независимый вид и на недоуменные взгляды и вопросы Боевого Воробья упорно твердил, аттестуя служащих в его управлении птиц:
— Абсолютно незаменимый работник! А этот — честнейший и преданный делу служака. Этот — способнейший организатор...
А служилые птицы, проходя шеренгой, давали объяснения.
— Мы размножаем циркуляры, сочиненные товарищем Дроздом, — кланяясь и приседая, говорили чиновные зяблики; при этом они щелкали клювом по тяжелым папкам с таким видом, как будто бы в папках заключалась вся мудрость жизни.
Зяблики говорили смело, надеясь доказать Боевому Воробью, что они самые серьезные и самые нужные в аппарате управления птицы. Зяблики порывались даже что-то указывать Боевому Воробью — они пускались в подробные объяснения и только наблюдавший за всем Дрозд, одним движением головы, одним взглядом в их сторону, останавливал ненужное рвение зябликов…
Следом за чиновными зябликами появились реполовы. Эти смелые птицы: сохранили свою военную выправку, они говорили коротко и отчетливо.
Боевой Воробей узнал старых товарищей и приветливо взмахнул крыльями навстречу им.
— Мы ликвидируем! — дружно гаркнули реполовы и, повернувшись налево кругом, отошли в сторону.
Дрозд слова не промолвил в защиту реполовов, напротив, он сделал вид, будто бы не замечает их. Только сердитое клыканье говорило о том неудовольствии, какое испытывал Дрозд при виде этих птиц.
— Джип—джип! — пробормотал Боевой Воробей, подозрительно поглядывая на Дрозда, и, желая получить объяснение, легохонько толкнул своего приятеля Скворца. — Что ты скажешь?
— Выдвиженцы, —сообщил Скворец, поблескивал глазами и, видимо, радуясь чему-то.
— Позвольте представиться и нам, — солидно выступили торговцы-кенара.
— Так ведь вы же не служите! — оглядывая упитанных кенаров, сказал Боевой Воробей.
— Ничего не значит, —возразили кенара. — На нас также, лежат не менее важные обязанности. Мы, изволите ли видеть, восстанавливаем все то, что ликвидировали они, — указали кенара на реполовов.
— Хорошо, я потом поговорю с вами отдельно, — предложил Боевой Воробей и остановился как раз перед соловьями.

Тогда старейший из соловьев поднял голову и хриповатым от простуды голосом начал:
— Мы, несменяемые служители искусства, искренно поем славу революции, но совесть побуждает нас признаться, что ничего нового в искусстве мы не создали.
Наше прежнее вдохновение с приходом революции иссякло, тогда мы решили переделывать старое на новое, отыскивая в тоже время во всем, что есть нового, элементы того, что напоминает хотя в малой доле прошлое. Просим извинить нас, если наши революционные песни мы поем на торжественный лад и сбиваемся на «коль славен».
Тут только ошибка, но нарочитой фальши нет.
— Приносит ли ваше пение хотя малую долю пользы? — усомнился Боевой Воробей.
— О, несомненно! — патетически воскликнул Соловей. — Несомненно, уважаемый гражданин Воробей. Наше искусство облагораживает души птиц, оно делает сердца незлобивыми, умиротворяет ненависть, заставляет поднимать глаза чаще к небесам, оно очищает птицу от всех скверн жизни, уносит от земли туда, где все равны. Ведь наше искусство, гражданин Воробей, бесклассово, но благотворно влияет на простых птиц и уже отчасти помирило их со своими прежними врагами, и это мы считаем нашей заслугой перед птичьим миром, нашим большим достижением, потому что бесклассовое искусство как раз отвечает тем задачам, которые...
«Понес!..»— досадливо подумал Дрозд. — Выдает себя с головой!»
— Ну, это вы того... вы уже заврались, дорогой служитель искусства, — остановил соловьиные излияния Боевой Воробей. — Дальше можно не продолжать, дальше мне расскажет товарищ Жаворонок.
— Фить-де-де! — откликнулся Жаворонок. — В последнее время я делаю только то, что одобряю соловьев, одобряю и, так сказать, благословляю. Надо сказать, наше революционное искусство еще недостаточно окрепло, а птицы жаждут утешения и успокоения от трудов. Ах, товарищ Воробей, я тоже должен признаться, что мою душу так же, как и соловьиную, ласкают нежные руки прекрасной мечты, когда слушаю я позабытые за годы революции напевы.
Нет, нет, я не консерватор! Зачем ты делаешь такие глаза, товарищ Воробей! Я всем моим существом чувствую, как прекрасные звуки прошлого ломают и коверкают все мои революционные помыслы и намерения. Да, я одобряю соловьиное искусство, фить-де-де! По знакомому, привычному руслу течет изо дня в день окружающая нас жизнь, и даже если ломается она, если рушатся самые крепкие плотины ее, — наше сознание, наши чувства неизменно и неизбежно отстают в своем развитии. Мы во власти былого, товарищ Воробей. Может быть, это грустно, но это так... Вот все, что имел я сказать, фить-де-де...
«Чтож, этого, пожалуй, не вдохновят и десять революций, —повернувшись к Жаворонку спиной, решил про себя Боевой Воробей. — Тут дело безнадежное! Сколько лет участвовал в революции — и...»
Глаза Боевого Воробья остановились на ярком оперении Щегла.
«Не скажет ли этот франт что-нибудь путное?»—подумал Воробей и, подойдя к Щеглу, сделал знак.
— Мое занятие, па-пить-пить, известно всем, —приосанился Щегол. — Я говорю на собраниях, заседаниях и совещаниях об их полезной деятельности, — указал Щегол на птиц. Я разрываюсь на части, чтобы успеть оповестить всех о той высокой революционной работе, которую выполняют служилые птицы. Тысячи речей, произнесенных мною, сделали мое имя популярным. Но мы, щеглы, не взирая на перегруженность, заняты еще в области культурного развития нашей республики. Разумеется, нам нужно всюду успеть, у нас ни одной свободной минуты, мы торопимся. Вы представляете себе положение, когда в семь заседание, в восемь собрание, в девять совещание. Мы говорим, говорим, говорим...

Наша величайшая из революций идет гигантскими шагами по пути освобождения угнетенных птиц всех стран: она, и только она заставляет дрожать жестокие сердца орлов, она сломала хищные клювы копчиков и ночных сов. Стальные груди рабочих птиц разобьют все преграды, и настанет час, когда могучие крылья революционных птиц будут гордо реять над миром. Тогда вдохновенные соловьи и талантливые крапивники пропоют нам славу! Эта песня славы, как грозовая туча, хлестнет по облакам, потрясет планеты и заставит в восторге затрепетать вселенную! Я призывал всех, па-пить-пить, провозгласить наше потрясяющее «ура»! За революцию во вселенной, я призываю вас...
— Остановись, да остановись же! — кричал Боевой Воробей, и самая настоящая острая боль металась в его глазах.
Напыщенная речь Щегла, самый вид его, ему, простому Воробью, были противны. Он кричал до хрипоты в голосе, чтобы задержать этот поток барабанной речи, но — где там! Щегол, в самозабвении и в самообольщении насчет того, что только он один может покорять сердца, продолжал говорить, отмахиваясь от того, о чем кричал ему Боевой Воробей.
— Не мешайте, не задерживайте! — надрывался Щегол. — Во имя светлых, светлейших идеалов мы перенесем жесточайшие страдания... Вспомните, товарищи, реки крови, пролитые нами в борьбе! Но что значат реки крови? Прольем океаны за лучезарное царство свободы, перелетим горы, густые туманы, всколыхнем и вознесем, па-пить-пить...
— Братцы, товарищи, — взмолился Боевой Воробей, обращаясь к реполовам, — уведите его, сделайте милость! Он сегодня не кончит...
Подхваченный сильными крыльями реполовов, подталкиваемый сзади перепелами, Щегол кричал не переставая, и последние слова его были слышны за дверями:
— Не дают свободно дышать, не дают говорить!!!
Минуты две стояла ничем не нарушаемая тишина. Дрозд хмурился. Скворец надулся до последней степени, чтобы удержать приступы одолевавшего его смеха, и вдруг, среди этой тишины, зеленый Чиж, не разобравшись в происходящем, завопил во все чижиное горло, подхватив последние слова Щегла:
— Не дают свободно дышать, не дают говорить!!! Тилль-те!!!
— Да убирайся ты отсюда к дьяволу! — заорал Дрозд, выведенный из терпения глупостью Чижа и, окончательно сконфуженный поведением своих подчиненных, сильным ударом клюва вытолкнул Чижа и поспешил за Боевым Воробьем, как раз, в тот кабинет, где сидела Трясогузка, деловито перелистывая журнал «Держи хвост по ветру».
«Погиб я, окончательно погиб» — досадовал Дрозд, замечая ужимки Трясогузки и делая ей знаки держать себя попристойнее. Но Трясогузка была потомственной Трясогузкой: ее мамаша и все родственники кормились трясогузом, — как же могла она утерпеть, чтобы не потрясти задом, когда представлялся такой счастливый случай? Завидев подходящего к ней Боевого Воробья, она затилинькала, кружась около стола:
— Вы у меня? Боже мой, как я счастлива! Я часто встречала вас, и, право, мне было жаль, что мы только знакомы...
Трясогузка перекосила глаза и последние слова пропела пронзительным, диким голосом: «Мы только знакомы!»
— Не хотите ли конопляного семени? — предложила она, открывая дверь в соседнюю комнату и красноречивым подмигиванием зазывая Боевого Воробья.

Дрозд кашлял, чихал, ворчал и клыкал, чтобы как, нибудь остановить Трясогузку, он пытался оттереть ее в сторону, но Трясогузка принимала подкашливание Дрозда как одобрение своему поведению и продолжала настойчиво приставать к Боевому Воробью, делая довольно откровенные намеки на то, что она желает остаться с ним наедине.
— Нахальная дура! — с злобным шипением выпалил Дрозд прямо в лицо Трясогузки.
— Что тут такое? —спросил озадаченный Воробей. — Кто она и откуда?
— Трясогузка и тому подобное, — сказал Снегирь. — По протекции товарища Щегла.
— К чорту, к дьяволу! — в бешенстве заорал Боевой Воробей, подняв перья дыбом, готовый броситься на Трясогузку. «Мерзавцы! — думал он. — У нас тысячи безработных, а тут...»
Вся история грозила закончиться большим скандалом и разгоном бездельников.
Однако, умный дрозд, выгнав Трясогузку, сделал знак зябликам закрыть все двери и порядок был восстановлен.
Трясогузка не мешала.
Но Боевой Воробей так был расстроен, что не захотел знакомиться с деятельностью других птиц и, пройдя мимо кабинета Воробья-Пискуна, с большим облегчением вздохнул, очутившись на воле…
***
Георгий Никифоров. Рисунки: Василий Сварог. Публикуется по журналу «30 дней», № 4 за 1928 год.
Из собрания МИРА коллекция