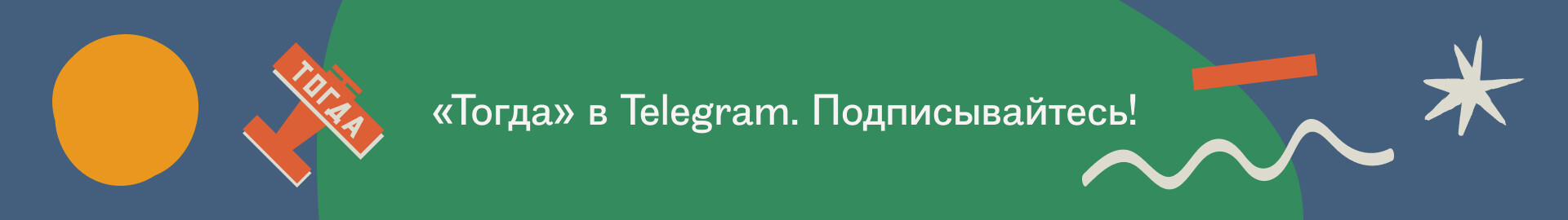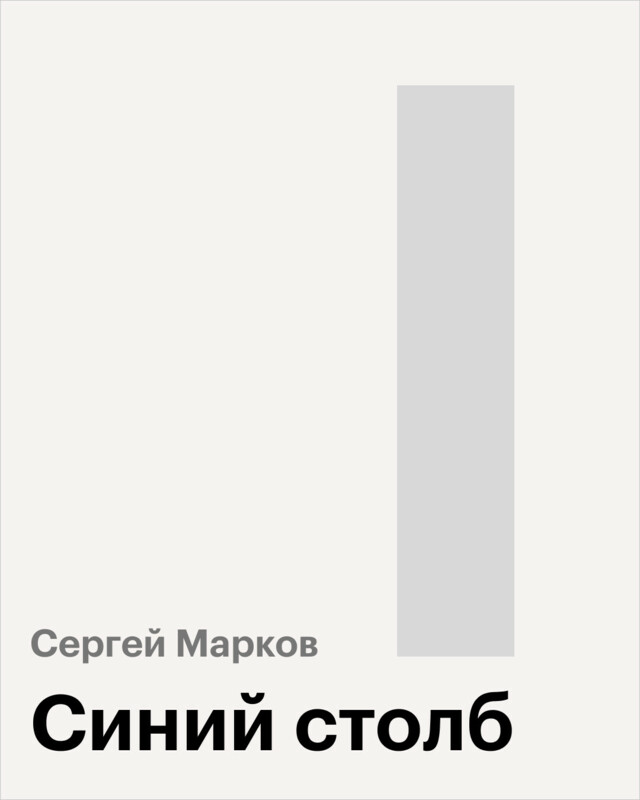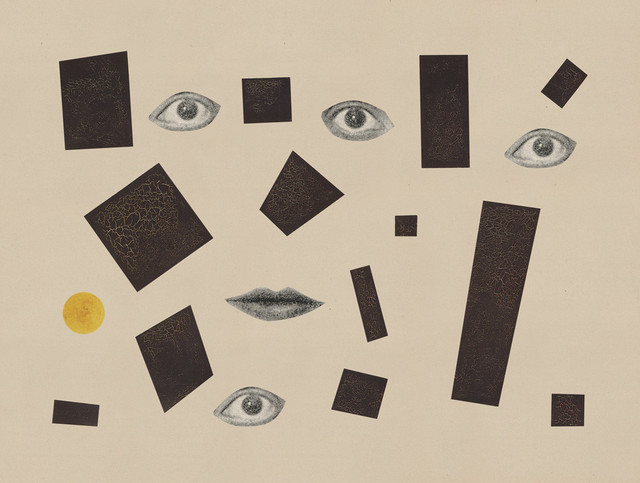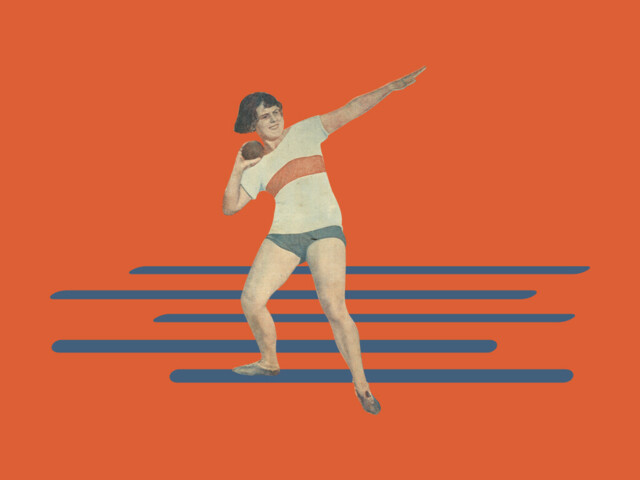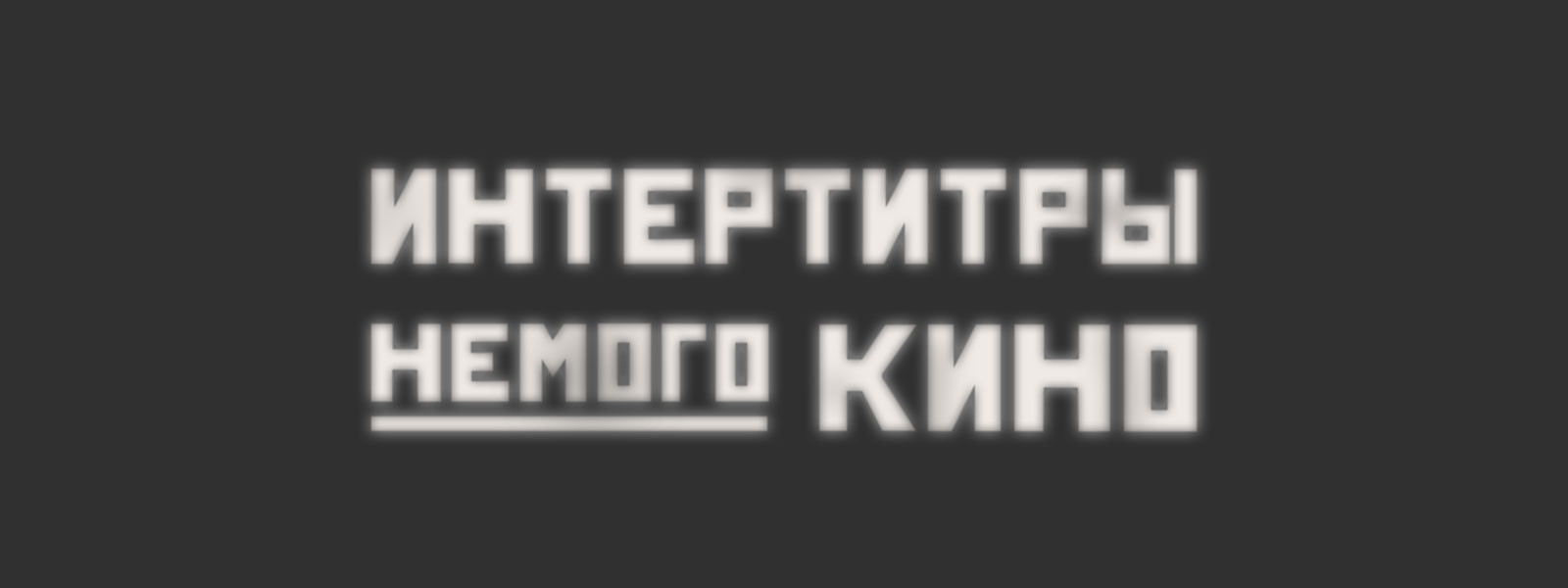«Снега». Константин Паустовский

1
Был объявлен привал. Лыжи воткнули в снег. Солнце отражалось в их широких отгибах, как янтарный плод. Ветер вместе с тонкими облаками пролетал очень низко, над самыми елями. Тогда просеку заносило снегом, и солнце превращалось в сырое пятно.
Архитектор Гофман, прозванный за малый рост «карманным лыжником», оттирал лыжи рукавицей. Он добивался зеркального блеска. От сильного трения дерево согревалось, и блеск его переходил в запах лака и хвои.
Компас лежал на ладони у Лели. Его робкая стрелка долго дрожала. Компас растерялся в мелколесье и в пустошах, засыпанных снегом. Потом белым острием он твердо показал на юг, немного левее солнца. В этом направлении была Медвежья гора. Гофман проверил по карте. Среди выцветшего зеленого пятна, обозначавшего леса, чернела надпись: «Сожженный французами монастырь». Компас вел верно.
За монастырем, над колючим от ельника оврагом ка Медвежьей горе, стоял недостроенный дом отдыха «Пятый день». К нему можно было легко подойти с Брянской дороги, но лыжники шли с севера, из Голицына, сплошным лесом. Дом строил Гофман.
Из пятерых лыжников только один – очеркист Метт – шел с практической целью. Он хотел описать «Пятый день». Остальные шли ради снега и зимних лесов.
О «Пятом дне» Метт знал только из коротких заметок в газетах. Говорили, что известный французский архитектор считал проект Гофмана гениальным. Между аспирантами Коммунистической академии вокруг «Пятого дня» возникли споры. Сообщали, что дом – цилиндрический и почти весь построен из стекла. Гофман на расспросы Метта ответил коротко и не по существу: изругал новые московские дома, обозвал их «американской дрянью» и предложил Метту пойти в «Пятый день» на лыжах.
В вагоне дачного поезда Метт думал о «Пятом дне». Но в лесу он забыл о нем. Он дышал. Как будто весна прошла над снегами. Метт воткнул в наст палки и оглянулся, – снега распространяли чистый, острый запах. Так пахнет ветер, так пахнет лед, тающий во рту, так пахнет юность.
Мощные пласты океанского воздуха легли на подмосковную землю. Спичка в руках Метта, закурившего папиросу, долго не гасла. Пламя ее даже не колебалось от ветра.
Сзади с мерным шорохом надвигался Лузгин.
– Хо-хо! – кричал он, пугая зайцев и наезжая на лыжи Метта. Лузгину хотелось говорить, но Метт ничего не мог разобрать.
Он снял кожаный шлем и услышал, наконец, слова Лузгина, похожие на выкрики.
– …Шесть часов утра… темно… шел к вокзалу, и передо мной выключали квартал за кварталом.
– Как выключали?
– Выключали фонари. Раз – и все кольцо бульваров проваливается в темноту! Раз – и тухнет вся Тверская от Садовой до Триумфальных ворот! Замечательно!
На кустах лежали маленькие снежные шапки. Леля остановилась, сняла перчатку и осторожно потрогала их холодными пальцами.
– Совсем как белые воробьи!
Муж Лели – репортер Данилов, – безмолвный и близорукий, всю дорогу отставал.
Лузгин считал заячьи следы. Зайцы, спасаясь от лыжников, путали сложные петли.
Низкое солнце светило сквозь замерзшие ветви. На снег, не тронутый ничем, даже ветром, легли прозрачные тени. Надо было пристально вглядываться, чтобы их заметить.
Темнело. Лес широко пошел вниз, к оврагу. Гофман обернулся и крикнул:
– Медвежья гора!
Остановились. За оврагом, как глыба старинного серебра, торжественно подымалась гора, заросшая кустарником.
Леля вскрикнула. Она первая увидела на горе «Пятый день». Над стеной прозрачных деревьев стояла луна. Она казалась розовым облаком, занесенным на головокружительную высоту.

2
Метт подумал, посмотрел, прищурившись, за окно, где звезды и снежные ветки создавали живописную зимнюю ночь, и с силой ударил по клавишам. Окоченевший рояль звучал глухо. Метт ударил второй раз, третий, и рояль запел, наконец, полным голосом:
Красивое имя – высокая честь.
Гренадская волость в Испании есть.
Когда налетал ветер, Метт морщился. Шум ветра проникал внутрь дома и заглушал мелодию. Он свободно входил и уходил через стены. Так бывает в комнатах с жалюзи. Порыв ветра наливает в них свежий воздух до самых краев, как воду в стакан, и табачный дым тянется вверх ровной струей.
Гофман дремал над остывшим стаканом чая. Когда Метт яростно бил по клавишам, он открывал глаза, с изумлением смотрел на Метта и засыпал снова. Леля спала рядом с ним, сидя за столом.
Данилов придвинул к самому носу керосиновую лампу и близоруко писал, перечитывая написанное одним глазом.
«Дом цилиндрический. Изогнутые окна из небьющегося стекла (без рам) занимают все стены. Комнаты полукруглые. Главный зал круглый. Стены очень тонкие и пропускают звук снаружи. В них устроены узкие прорезы, автоматически закрывающиеся планками из полированной сосны. Планки можно ставить под любым углом.
Три этажа соединены широкой винтовой лестницей из белого камня. Лестница идет около стен. Она неожиданно разрезает полы и потолки. Освещения еще нет. Все лампы будут из вольфрамового стекла, не задерживающего ультрафиолетовых лучей. Гофман уверяет, что в доме будет стоять вечное лето, климат Алжира. Зимой отдыхающие смогут загорать, как летом у моря.
Центр дома прорезает от основания до крыши круглая каменная колонна, похожая на мачту. Вообще в доме есть нечто маячное. Гофман вырос на море. В молодости, по его словам, он даже плавал на шхунах, возивших херсонские вишни. В сторожа „Пятого дня“ он взял на зиму комсомольца Гришина, демобилизованного из Балтийского флота.
Все же в доме есть что-то мертвое, от крематория. Он еще не обставлен и не совсем окончен.
Дом не огорожен. Он стоит в чаще деревьев, над оврагом. Внизу лес и замерзшая лесная речонка. Называется она очень странно – „Дарьинка“».
Данилов написал: «Дарьинка», «Даринка», «Дар»… – и уснул. Звезды пролетели за окнами, царапая их зеленоватым следом.
Метт играл все тише, перебирая клавиши, как струны.
Лузгин пошел вниз в кочегарку за спичками. Ему хотелось курить. Гришина не было – он уехал в Москву. Истопник Никифор сидел у котла и сушил мокрые валенки. Никифор был стар, глаза его слезились.
– Ну, как, отец, привык к этому дому? – спросил Лузгин.
Никифор подумал и заглянул внутрь валенка.
– Дом, конечно, кругловатый. Ветерком его разнообразно обдувает, нет никакого препятствия. Практическая вещь.
Никифор был убежден, что дома начинают разрушаться с углов. К дому он привык. Его занимало другое.
– Вот Гришин намедни, – сказал он, оживляясь, – по зайцу из револьвера стрелял. Сроду этого не видывал, хоть я и сам охотник. Нешто можно из револьвера в зайца?
Лузгин сказал, что можно.
– Дом – одна красота! – вздохнул Никифор, как бы забыв о зайце. – Когда воздвигали этот дом, было приказано ни единого кустика круг его не сломать. Ты погляди – дорогу, и ту провели узкую, чтобы лишний лес не рубить. А ране как было? Лес валили под корень десятинами, реки сушили, зверя истребляли. Зверь какой подался на Мещовск, а какой – на Ржев. Пустели леса. Прошлым разом приезжал Гофман, разговорились. «Мы, говорит, сделаем всю округу заказником, иначе какой людям отдых? Пускай все растет-цветет без помехи».
Лузгин вернулся наверх. Все уже спали. Леля свернулась на диване. Метт и Данилов спали на полу. Гофман торжественно лежал на походной кровати лицом вверх, как труп полководца. Острый его нос бросал гигантскую тень на стену.
Лузгин полюбовался тенью, потушил лампу и лег рядом с Меттом. Сны наплывали отдаленным гулом, – в нем слышались свистки паровозов, шум ветра над оврагами. Вздрогнул и тихо пропел рояль. Лузгин уснул.
Один Никифор бодрствовал в кочегарке, размышляя над высыхающими валенками.
Метт открыл глаза. Он чувствовал теплую свежесть, удивительно ясную голову, – он выспался. За окном валил снег. Метт его не видел. Он замечал только отдельные снежинки, отлетавшие от стекла.
– Прекрасно! – громко сказал Метт и закурил. Папиросой он осветил часы – была половина пятого.
– Что прекрасно? – спросил со своей койки Гофман. Он проснулся раньше Метта.
Метт помолчал.
– Я хочу написать об этом доме; вы будете рыдать от восторга перед самим собой. Такого очерка не удостоился ни один архитектор в мире. Устроим интервью.
– Черт с вами, – пробормотал Гофман. – Спрашивайте.
– Расскажите сами. Гофман подумал.
– О доме, конечно, будут писать специалисты. Это важно для меня, но не нужно всем прочим. Я полагаю, что лучше всего «Пятый день» может описать только круглый невежда в архитектуре, такой, как, скажем, вы или Данилов. Это будет похоже на мнение рядового читателя о литературной новинке.
– Спасибо, – сказал Метт.
– Города отжили свой век. Если вы, гражданин Метт, думаете, что это неверно, то Энгельс думал иначе. Каждому государственному строю присущи свои формы расселения людей. Социализму города не нужны. Города созданы человеческой ограниченностью, неумением распределять сырье, труд, продукты и культурные ценности. Все это сваливают в кучу и собирают вокруг миллионы людей.
– Слабо! Вы отрицаете коллективное начало.
– Радио, телефон, воздушные рейсы и передача изображений на расстояние позволят отказаться от необходимости собирать миллионы в одно место. Коллективы будут меньше числом – и все.
– Предположим.
– Что такое дом? Для человека это то же, что панцирь для черепахи или раковина для улитки. Он должен быть устроен так, чтобы облегчить и биологическую и психическую нашу жизнь, дать ей среду для расцвета. Дом должен быть рационален, строго соответствовать своему назначению и радовать глаз. Созерцание прекрасных вещей вызывает подъем творческого настроения. Это – мощный фактор в деле социалистического строительства и создания полноценной личности.
– Это отрицают.
– Кто отрицает? «Недоучки», —сердито сказал Гофман. – Кто сказал, что только идиот может не любить Пушкина?
Метт молчал.
– Вы шляпа, а не литератор. Не знаете даже этого! Из того, что я сказал, понятны все особенности «Пятого дня».
– Ни черта не понятно!
– Как не понятно! Я же сказал, что дом должен соответствовать своему назначению. Вы едете отдыхать не в Москву, а в лес. Так? Значит, дом отдыха должен быть неотделим от природы. Отсюда – форма. Нужны спокойные линии. Самая спокойная линия – круг, а не острый угол. Отсюда – закругленные комнаты. Стены пропускают звук, и вы морщились во время игры на рояле. Это сделано сознательно. Шум леса и ветра такой же хозяин внутри дома, как и снаружи. Вместо наружных стен – стекла. Вас будит не хлопанье парадных дверей, а восход солнца.
В стенах прорезы. Надо поставить планки под известным углом, весь дом наполняется воздухом, и вместе с тем в комнатах стоит полный штиль. Крыша разделена перегородками по румбам. На ней можно спать, спрятавшись от любого ветра. Потолки невысокие. Прорези в стенах делают ненужными высокие потолки. Высота комнат должна соответствовать среднему росту людей, иначе комната делается противной, как тощий человек исполинского роста. Хватит?
– Пока хватит.
Метт долго смотрел за окна, надеясь заметить легкий налет синевы, что предвещает приближение утра, но ничего не дождался и уснул.
Как только начало светать, Лузгин разбудил Данилова. Обоим было нужно вернуться утром в Москву. Они вышли на лыжах в Апрелевку, на Брянскую дорогу. Ночь из черной стала синей, потом серой. Заиндевелые верхушки деревьев светились желтым огнем, – за лесом взошло солнце.
От станций, от паровозов, от вагонов валил густой пар. Отчаянно кричали вороны. Махорочные, душные, обветренные поезда шли к Москве, продышавшей, как лесной зверь, темное пятно среди глухих и глубоких снегов. От Москвы тоже валил дым и пар, но московский дым был угрюм и величав. Это был как бы дым истории, революций, дым вечности. Так думал Данилов, склонный к поэтическим метафорам и слегка истеричный.
– Мне гофманский дом не понравился, – сказал он Лузгину в буфете Брянского вокзала, где они пили чай. – В каждой мелочи виден расчет. Нужна ли такая свирепая целесообразность?
– Вы что ж, только что родились? – угрюмо буркнул Лузгин. – Что вы чушь порете.
Данилов был настойчив.
– В каждом доме, – продолжал он, – должен быть некоторый запас бесполезных вещей. В каждом доме должна быть хотя бы одна ошибка.
– Зачем?
– Чтобы оживить его. Гладкая речь без ошибок, – это дикая скука. Ошибка – признак жизни, безошибочность – омертвение. Гофманский дом мертв.
Лузгин пожал плечами.
– Разные бывают ошибки, – сказал он, надевая рюкзак. – Один татарин-нефтепромышленник выстроил в Баку дворец. Архитектор ошибся и не сделал во дворце уборной. И по нужде гостям и хозяевам приходилось бегать во двор. Не думаю, чтобы они разделяли ваши взгляды.
Леля, Гофман и Метт вернулись в Москву вечером. В трамвае у Лели оторвали в давке пуговицу на шубке. Пассажиры давили и мяли друг друга невыносимо. По Пятницкой катились, изрыгая проклятья, грузовики.
Данилова не было дома. На кухне гудели примусы. Леля села к столу и, медленно стаскивая с руки перчатку, заплакала… В ответ ей злорадно прогромыхал за окном разбитый и злой, как собака, трамвай.

3
Лузгин приехал на завод на два часа раньше начала занятий. Так уж повелось – он приезжал всегда раньше. На заводе он отдыхал. Он ходил по цехам, подолгу простаивал около станков, перекидывался шутками с рабочими.
Его злили разговоры о том, что заводы неживописны и не дают материала художникам. Даже сейчас сквозь мартовский глухой туман рваным пламенем дышали окна кузнечного цеха, фиолетовые нестерпимые звезды автогенных горелок гудели во дворе, в пустых цехах черные портальные краны высоко катились в голубом дыму электрического огня, свет преломлялся в толстых линзах предохранительных очков, стальные машины, сонно чавкая, резали тусклую золотую латунь.
Несмотря на надписи в сварочном цехе о том, чтобы не смотреть на пламя, очень тянуло смотреть на него. Оно вызывало воспоминание о никогда не виденном море, о чуть сиреневом дымящемся солнце, о городах, сыплющихся грудами фонарей в глухие приморские ночи, как сыпались в темноту искры взрезаемых с жестоким скрежетом тавровых балок. Около сварщиков Лузгин простаивал дольше всего.
Завод гудел день и ночь, но привыкший к гулу слух Лузгина замечал нараставший, все более высокий тон гула. Завод набирал скорость, перекрывая зимний прорыв. Завод жил спокойной спешкой, углубленными в работу ударными бригадами.
Бригады работали безмолвно, без криков, без зубоскальства. Это было совсем не похоже на то, что трескуче писали в газетах об этом заводе шустрые юноши в вязаных жилетах. Они нагнетали в свои заметки много шуму и фамильярности по отношению к бригадам. Бригадам это не нравилось. В заметках проскакивал не производственный, не рабочий, слегка фанфаронский подход к делу, но бригады терпели, – пусть их пишут, мы свое делаем.
Лузгин репортеров ругал. Он пытался внушить им, что надо ясно, просто, без захлебывания и без паники писать о работе завода. Репортеры соглашались, но делали по-своему. Они сегодня восторженно сообщали: «Завод блестяще идет к ликвидации прорыва», а назавтра били в набат: «Сигнал тревоги. Завод не выполняет мартовских показателей. Недостаток плановости является решающим фактором в прорывах на заводе». И то и другое было одинаково преувеличено.
Лузгин пошел в красный уголок. Рабочие уже собрались. Почти все были из горячих цехов – сухие, перегоревшие от огня, с резкими бронзовыми профилями.
Лузгин тщательно готовился к докладам. Он выработал язык простой и законченный. Говорил он медленно, даже спотыкался, но после каждой остановки начинался абзац, раскрывавший тему с неожиданной стороны. Мыслил он образами и невольно строил доклад, подчиняясь им и развивая их до нужной выразительности.
На доклады Лузгина рабочие шли охотно.
Лузгин строго следил за составом слушателей. Больше всего его радовало присутствие стариков. Среди заводских работников господствовало убеждение, что стариков раскачать нельзя, что старики упрямы, как буйволы. Лузгин втайне ликовал, – стариков с каждым днем набиралось все больше.
На этот раз он делал доклад о событиях на Китайско-Восточной дороге. Он пересыпал его отрывками из писем красноармейцев, рассказал о Дальнем Востоке, где провел два года в Красной Армии, упомянул, между прочим, о знаменитом исследователе Уссурийского края Арсеньеве, посоветовал прочесть его книгу и привел отзыв о ней Горького.
Доклады Лузгина обрастали плотью быта, людьми, характерными подробностями, даже пейзажем. Лузгин заметил, что этот способ, лишавший тему ее абстрактности, создавал приподнятое настроение среди рабочих. Метод был верен, и Лузгин точно бил в цель.

4
Вечер приближался со всей пышностью, на какую способно московское лето. К пяти часам день приобрел мутный цвет плохо процеженного белого вина. Гофман лежал на диване и смотрел на кущи черных садов, готовых каждую минуту сорваться в светлую воду. Из окна были видны Воробьевы горы.
Он устал. Пришлось много спорить, быстро находить веские доводы, доказывать то, что, по мнению Гофмана, не нуждалось в доказательствах.
«Пятый день» был достроен и открыт, но кому-то понадобилось снова затеять бесцельный спор об этом доме. Спор шел в строительном комитете. Гофмана вызвали повесткой. В повестке было сказано: «Доклад тов. Иваницкого о нецелесообразности постройки домов отдыха типа „Пятого дня“» – и в конце: «Ваша явка обязательна».
Гофман боялся публичных выступлений. Он не умел говорить. Маленький рост делал его в собственных глазах менее авторитетным. Его угнетали солидные инженеры в тонких английских костюмах, неторопливо изрекавшие скупые и как будто бесспорные истины. Его преследовали некоторые аспиранты из Института сооружений, придававшие постройке «Пятого дня» чуть ли не мировое, но отрицательное значение. Они обклеивали свою речь множеством «измов», и Гофман удивлялся: один «изм» цеплялся за другой с точностью зубчатой передачи. Всем своим существом Гофман знал, что они не правы, но доказать это не умел.
На совещании «Пятый день» уничтожили без остатка. Аспиранты говорили, что Гофман допустил много ошибок и проявил ненужный функционализм в своей постройке. Говорили, что дом построен, как машина, – только из работающих частей, по-делячески–, по-американски – иначе говоря, черство и рационально до скуки. Один из аспирантов назвал «Пятый день» силосной башней. Гофман взорвался и наговорил кучу резкостей. Он был глубоко уверен, что аспиранты приписывали Гофману то, с чем он сам боролся.
Инженеры слушали аспирантов почтительно, но рассеянно. По их мнению, гораздо важнее было то, что «Пятый день» обошелся дорого и взял много строительных материалов. Постройку таких домов инженеры считали расточительством. К ним присоединился и представитель РКИ.
– Видите ли, дорогой товарищ, – сказал в нос инженер Розенблит и зажал между колен скрипучий желтый портфель. – Видите ли, я одного не понимаю. Зимою ваши отдыхающие будут спать при открытых планках. Кажется, так? Другими словами, дом на ночь будет превращаться в решето. Вместе с тем необходимо, я полагаю, чтобы температура воздуха не падала ниже определенной нормы. Другими словами, – Розенблит поставил портфель на стол как границу между собой и Гофманом, – другими словами, в комнатах должен быть всегда свежий, но теплый воздух. Следовательно, надо топить. При условии решетчатых стен это равносильно тому, как если бы, – Розенблит встал и взял портфель под мышку, собираясь уходить, – как если бы мы начали отапливать Сокольническую рощу.
– Во-первых, – ответил Гофман, – при небольших морозах топку можно на ночь прекращать, – больные спят в мешках. При сильных морозах топить нужно, но планки будут периодически закрываться, а в открытом состоянии их будут регулировать таким образом, чтобы не спускать температуру ниже известного предела.
Розенблит коротко рассмеялся и вышел. В соседней комнате он громко сказал кому-то:
– У меня сегодня масса дел и нет охоты слушать разговорчики.
Теперь, лежа на диване, Гофман вспоминал Розенблита, краснел и бормотал:
– Идиот. Спесивый дурак!
Один только человек в сапогах и новом твердом пиджаке, все время что-то записывавший, поддержал Гофмана.
– Если материалов мало, – сказал он, – так это не значит, что мы должны строить дрянь. Можно построить дом и на большой палец. Я в этом доме жил и отдохнул, как в Крыму не отдыхал. Дом замечательный. Это надо сказать твердо.
– Вы от какой организации? – спросил его председатель.
– Да я рабкор из «Рабочей Москвы», отчет буду давать.
Решение было вынесено неясное – признать вопрос о постройке домов отдыха типа «Пятого дня» открытым.
– Вы открывайте, а мы закроем, – сказал рабкор, собрал свои листки и ушел. Загадочная его фраза вызвала у инженеров натянутые улыбки.
День заседания в строительном комитете был последним днем Гофмана в Москве. Завтра он уезжал, вернее – улетал в отпуск. Летел он до Харькова, а оттуда собирался проехать к себе на родину – в маленький порт Скадовск на берегу Каркенитского залива.
Вещи были уложены, и делать было нечего. Гофман решил идти домой на Усачевку пешком. Он миновал тесное азиатское Зарядье и вышел к реке. Над синей от бензинного чада водой носились чайки. Из черного горла могэсовских труб валил жирный дым. У Каменного моста старики удили рыбу в зеленой сорной воде. В ней плавал розовый Кремль. Отражение было сказочным, но старики равнодушно сплевывали на него и одобрительно вдыхали гнилую прохладу, сочившуюся из-под арок моста.
Гофман свернул на Пречистенку. В этом районе Москвы солнечный свет был свободен от пыли. Дворники поливали мостовые. Серый асфальт превращался в черные блестящие пруды. Пруды эти пахли дождем.
– Жара! – Гофман вспомнил, что в жару полеты неприятны, бывает много воздушных ям.
Над пустынной Усачевкой мальчишки гоняли голубей. Дома Гофман лег, долго вспоминал заседание, потом у него под закрытыми веками забегали красные и фиолетовые пятна, и он уснул.
Разбудил его грохот в дверь. Леля и Метт пришли прощаться. За стеной смеялась Леля. Тончайшая рябь облаков чешуей золотела над городом.
Метт улыбался глазами. Смеяться он не умел. Леля в необыкновенном платье – коротком, тонком и блестящем – то хохотала, то внезапно задумывалась и неподвижно глядела перед собой. Гофман всматривался в нее. Ее зрачки были неестественно расширены, и на белках загорались искры – отражение вечера, полного жары и света. Так по белому борту парохода перебегает блеск волны.
В комнате было душно. Пошли к реке.
– Друзья, – сказал Гофман, – если бы можно было нам вместе поехать к морю. Как было бы чудесно!
Случайное соединение нескольких мелких фактов вызывало у Гофмана взрыв фантазии. Достаточно было ленивого летнего дня, короткого, но крепкого сна, чтобы началось то состояние, какое Гофман переживал сейчас. Он называл его «сухим опьянением».
Он неясно представил шум акаций в темноте, плеск моря, пески, степи, откуда дует суховей.
– Как было бы чудесно! – повторил он с сожалением.
– У всех отпуска в разное время, – пожаловалась Леля. – По-идиотски устроено.
Метт занялся подсчетом.
– Двести восемьдесят один день в году, – сказал он точно, – вы сидите в грязных комнатах. Мы еще не научились культурно работать. К концу занятий воздух зеленеет от дыма.
– Ужасно! – ответила Леля.
Гофман не выносил жалоб. Припадок «сухого опьянения» сменился раздражением.
– Дурость, – сказал он. – Вы – умный человек, Метт, но ум у вас с гнильцой. Вы решили, что скептицизм спасет вас от действительности. Вы живете в нем, как инфузория в питательной среде. В глубине души вы сами знаете, что это неверный подход к окружающему, но вы лентяй и чувственный тип и потому плывете по течению.
– Весьма интересно, – сказал язвительно Метт – Продолжайте, прошу вас.
– Вы идете по линии наименьшего сопротивления и руководствуетесь своими чувствами, а не разумом. Конечно, это легко.
– Об этом вы бубните мне каждый день, – спокойно ответил Метт.
– Заставьте себя подумать. Представьте такое положение – мы окружены не врагами, а друзьями. Нас не травят, не ощетиниваются против нас штыками. Представьте себе победу советского строя если не во всем мире, то хотя бы в Европе. Вы первый заключите договоры с издательствами и ринетесь в Турцию, в Грецию, в Италию. Вы будете писать великолепные книги, и ваша жизнь приобретет небывалую полноту. Вы помолодеете на десять лет. Тогда, я надеюсь, вы поймете, что значат слова «культурная революция». Вы будете одним из ее борцов. Ее ценности будут жить внутри вас, как весь комплекс ваших мыслей и настроений. Не думайте, что это будет сладкое идиллическое время. Тогда тоже будут умирать и бороться – в экспедициях, в лабораториях – всюду, где существует живая человеческая мысль.
– Это неясно, но довольно привлекательно, – сказал Метт.
– Что такое пятилетка? – спросил Гофман. – Величайшее напряжение, чтобы приблизить будущее не теми сонными темпами, какими идет биологическая жизнь, а теми темпами, которые нужны нам, живым людям, не рассчитывающим жить двести лет. Пятилетка – это героическое нетерпение, вогнанное в рамки цифр. В этом ее смысл и ее необыкновенность, молодой человек.
Метт молчал.
– Согласились бы вы сейчас уехать навсегда из СССР? – спросил Гофман.
Метт перестал улыбаться.
– Никогда, – ответил он резко.
– Чего же вы валяете дурака?
Леля засмеялась.
Они вышли к реке у моста Окружной дороги, Прозрачные сумерки отражались в ней зеленым цветом. Гофман взял лодку.
С поднятых весел стекала лиловая ртуть. Каждую каплю пропитывал поток огней, сиявших из парка культуры и отдыха. Вода засыпала под глухими тяжелыми липами.
Гофман довез Лелю и Метта почти до Болота. Здесь они распрощались. Отъехав на середину, Гофман смотрел, как Леля медленно шла вдоль набережной. Метт остановился закурить и отстал.
– Эх, друзья мои! – сказал Гофман, повернул лодку и короткими рывками погнал ее к шумной темноте Нескучного сада.
5
В июле умер отец Лузгина. Старик умер внезапно от разрыва сердца.
На следующий день Лузгин отправил тело в крематорий, а сам поехал автобусом. В крематории никого, кроме Лузгина, не было. Осторожно ходил очень вежливый человек в халате, и басом рыдал орган.
Лузгин испытал облегчение. Со смертью старика прошлое ушло, его можно было навсегда убрать из памяти.
От Донского монастыря Лузгин прошел на Калужскую улицу. В поясе садов и больниц она простиралась к Воробьевым горам. Было четыре часа. Засуха достигла той степени, когда перегорают краски. Листва на деревьях, дома и даже небо выцвели до серого цвета. Корпуса Нефтяного института побелели, как бы покрывшись солью.
Лузгин знал, что в Нефтяном институте работала машинисткой Леля. Он вошел во двор, похожий на плац для военных учений, открыл дверь, и прохладная светлая тишина бетонных зал и переходов подействовала на него, как внезапный душ.
Ему указали комнату. Он вошел – за окном тлело пестрое Замоскворечье. Леля писала под диктовку.
Она вскочила, пододвинула Лузгину стул и попросила подождать – ей осталось дописать страницу.
Незаметный человек в сером мосторговском костюме глухо и сбивчиво, стесняясь Лузгина, диктовал доклад об омоложении нефтяных участков на Грозненских промыслах.
Леля писала порывисто, сжав губы. Машинка трещала в такт ее сбивчивым мыслям:
«Зачем он пришел?.. вот неожиданно… как хорошо все-таки, что он пришел… стыдно, – я при нем жаловалась на свою работу, а сегодня здесь хорошо, как никогда, – светло, чисто, Мятликов диктует интересный доклад… знает ли он, что Гофман улетел в Харьков… он пришел не зря… зря так далеко не ходят… почему я волнуюсь… почему, почему, почему?..»
Леля не успела мысленно ответить на этот вопрос. Мятликов сказал: «Все» – и, скромно подождав, пока Леля вынет готовый лист, взял доклад и, попрощавшись, торопливо вышел. Он боялся хотя бы лишнюю минуту задержать Лелю и помешать ей. Мягкость и догадливость ученых в делах, далеких от нефти, крекингов, легких и тяжелых масел, удивляла Лелю. Она думала об этом, но не нашла объяснения. Оставалось предположить, что в научных книгах среди непонятных формул и интегралов самозарождались крохотные бактерии уважения к человеку, внедрялись в сознание ученых и жили в нем скромной жизнью.
– Ну что, что? – торопливо сказала Леля, подойдя к Лузгину. – Как вы нашли меня здесь? Как вовремя вы пришли. Я сегодня с утра сама не своя – так гадко на душе, будто во всей Москве я одна.
Лузгин понял, что Леля относится к его приходу, как к перелому в своей жизни. Зашел он случайно, но, слушая Лелю, понял, что некое, незаметное ему самому, решение встретить ее жило в нем еще со времени лыжной вылазки на Медвежью гору. Встреча эта приближалась, как туча, – в беспокойном шорохе листвы, во внезапных порывах ветра, в неясности настроения, – хотелось шуметь от возбуждения и легкого страха.
– Я здесь был недалеко по делу, – сказал Лузгин и покраснел. Какого сорта было «дело», он не сказал. Он понимал, что сейчас это невозможно. Леля даже не услышит слов о смерти, они не дойдут до ее сознания. Их заглушит гроза, шумящая в ней самой, их скомкает и отшвырнет ее внезапное смятение.
Ей надо было услышать совсем иное, и Лузгин промолвил:
– Я за вами. Пойдемте на реку.
– Да, идем? – радостно спросила Леля, как будто ждала этого очень давно. В ее глазах Лузгин уловил широкий напряженный блеск, который недавно поразил Гофмана. – Будет дождь, вы не боитесь?
– Наоборот. В дождь на реке хорошо. У вас есть плащ?
– Есть, – глубоко вздохнула Леля. – Я сейчас. Пока она надевала шляпу, Лузгин заглянул в окно.
Из Дорогомилова тянуло гарью. Дым паровозов подымался к небу белыми зловещими столбами – за Брянским вокзалом, сквозь пыль и грохот предместий, прорастала исполинская синяя туча.
Через Нескучный сад они сбежали к реке и зашли пообедать в павильон у пруда. Приближение грозы распугало гуляющих – в парке было пусто.
Леля ничего не ела. Она рассказала Лузгину о сегодняшнем утре.
Утром у нее была ссора с Даниловым.
Данилов, вытираясь полотенцем, сказал:
– Ты знаешь, я напечатал заметку о «Пятом дне».
– Ну и что же?
Леля с прошлого вечера была раздражена, – кончался июль, а она ни разу не была за городом. Лето изнывало на мостовых и в комнатах с застоявшимся воздухом.
– Ничего особенного. После этой заметки назначили комиссию, чтобы выяснить, стоит ли вообще строить такие дома.
– Слышала. Что написал, покажи!
Данилов протянул газету. Леля быстро нашла заметку, прочла и сухо рассмеялась. Данилов писал о том, что «Пятый день» – образчик формальных исканий, совершенно чуждых пролетариату, и что дома такого типа строить сейчас, когда строительные материалы нужны для промышленности, – преступное разбазаривание ресурсов.
– Куцые мозги! – Леля швырнула газету на стол. – Всю жизнь ты мелко плавал и так и умрешь мелюзгой. Как тебе верят в редакции, не знаю. Чудесное здание, в нем схвачено будущее, в нем – талант, мысль, – и такая паршивенькая заметка.
– Нам такие дома не нужны, – ледяным голосом ответил Данилов.
– Кому это нам, кому это нам? – закричала Леля. – Маменькиным сынкам, сыновьям маклаков? (Отец Данилова был торговцем.) Как ты смеешь так говорить! Ты злишься на талантливых людей. Мне противно, понимаешь, противно слушать тебя. Уходи! – Леля сломала карандаш и швырнула его в угол. – Уходи сейчас же, я не хочу тебя видеть! Как я теперь буду смотреть в глаза Гофману, Метту, всем?
– Истеричка! – Данилов начал торопливо завязывать галстук. – Вздорная сумасшедшая баба! Твой Гофман хвастун и халтурщик. Об этом говорят все, ты одна ни черта не видишь.
– Я сказала тебе – уходи!
Данилов ушел, хлопнув дверью. Леля упала на диван и разрыдалась. На службу она опоздала. Аспиранты, увидев ее заплаканные глаза, тотчас ушли в соседнюю комнату, а один из них принес ей невзначай апельсин из буфета. Леля взглянула на него, улыбнулась, и слезы быстро закапали на клавиши ундервуда. Аспирант моментально скрылся.
Лузгин слушал Лелю, краснел и покашливал. Потом, решившись, сказал:
– Да, он мелковат. Все дело в том, что невыносимо слышать, как бездарность (Лузгин спохватился, но слово уже сорвалось, и потому он его повторил), как бездарность клевещет на таких свежих людей, как Гофман. Он чудак, конечно, Гофман, но такие чудаки нужны нам. Их нельзя променять на самых трезвых людей.
На реке было пустынно. Над слепой свинцовой водой порывами взлетел жаркий ветер. Сады волновались и тревожно переговаривались пыльной листвой. Лузгин быстро греб. Он хотел до дождя попасть к Ноевскому саду. Уже были видны вывески на берегу: «Якорей не бросать – сифон водопровода», когда над Хамовниками взрывом вздуло желтую пыль.
– Не успеем, – сказала Леля.
Железная рябь пронеслась от берега к берегу, и пыль, смешанная с листьями, ослепила Лузгина. Он повернул лодку к берегу и увидел посреди реки водяную стену, с шумом налетавшую на Лелю. Обрушился дождь, и тотчас же они услышали дикий запах мокрой травы и речного песка.
Лодка ударилась о берег. Лузгин выскочил, подтянул ее. Леля выпрыгнула, с силой оттолкнувшись от его плеча.
– Наверх! – скомандовал Лузгин, яростно вытаскивая застрявшие в уключинах весла. Леля побежала по сгнившей деревянной лестнице. Лузгин с тяжелыми мокрыми веслами на плече прыгал за нею через ступеньки. Наверху стояла заколоченная дача. Издали Лузгин увидел крытую террасу, защищенную от дождя.
Леля, смеясь, взбежала на террасу. К ее туфлям прилипли сбитые дождем блестящие листья лип.
Ливень глухо гудел, плотным полотном застилая реку. Жидким огнем сверкнула молния, рявкнул гром, и ливень полил еще гуще.
Лузгин улыбался, сам не зная чему, и стряхивал с лица крупные брызги. Дождь наступал. Он начал захлестывать террасу и вытеснил Лелю и Лузгина в угол – единственное место, куда он не мог достать. Обрадовавшись сырости, в зарослях крапивы под полом террасы запели комары.
Леля и Лузгин тесно стояли рядом.
– Леля, – сказал Лузгин, – вы знаете, что сейчас творится вот здесь, – он показал на свой лоб.
– Да, – тихо ответила Леля, – а впереди еще много, много… Такая тревога, мы совсем не можем говорить. Ни о чем нельзя говорить, когда это приходит.
Она слегка подчеркнула слово «это».
– Как неверно, – продолжала она, засмеявшись, – как глупо думают, что любить – это значит одного человека, что вокруг него вертится весь мир. Совсем это не так, не так! Это не один человек, это – все! Ну все, понимаете, все! Представьте, вот гроза, мокрые листья, вы, гофманский дом, дружба, споры, ну все, все это – любовь, а не один человек.
– Да, это так, – ответил Лузгин.
Он слышал ровное гудение дождя в терпких зарослях крапивы и быстрые удары Лелиного сердца рядом с собой.
– Есть вещи незабываемые, – сказал он. – Мы прекрасно знаем, что нет ничего вечного, но есть веши незабываемые. Они существуют вне всякой зависимости от того, что может случиться с нами потом.
В Москву они вернулись поздно. Дождь прошел, но ветер налетал порывами до самого утра. Москва шумела листвой. Брызги залетали с веток в открытые окна трамваев.
Ночью Леля не спала. Данилова не было дома – взбешенный, он уехал на дачу к приятелю. Два раза поздней ночью Леля тихо вызывала по телефону Лузгина, и ей тотчас же отвечал из трубки его мягкий и глухой голос. Леля бранила себя дурой и смахивала слезинки, слушая, как он шутил и смеялся.
Окна были открыты. Суровый ночной воздух проникал в них. Со стороны Кремля долетал величавый бой башенных часов. Раньше Леля не замечала этого звона.
6
Метт получил письмо, написанное дрожащим старческим почерком. Письмо было датировано 10 августа.
«Мой сын, Виктор Борисович Гофман, несколько раз упоминал вашу фамилию, называя своим другом. В его записной книжке я нашел ваш адрес. Поэтому считаю тяжелым своим долгом сообщить вам ужасную весть – Витя утонул 2 августа.
Детей из здешнего детского сада, – сообщал почерк, и дрожание его усиливалось, – повезли на моторном катере на прогулку на остров в трех километрах от Скадовска. К шести часам катер должен был возвратиться, но в три часа налетел ураган с ливнем, развело зыбь, и о возвращении детей не могло быть и речи. В городишке нашем началось волнение, ибо дети были отправлены в легких платьицах и, естественно, могли простудиться. Кроме того, им приходилось заночевать на острове, где нет никакого жилья, кроме дырявого сарая для сетей. К вечеру шторм дошел до семи баллов.
Рыбак Ковальченко и Витя вызвались на парусной шлюпке доставить на остров теплую одежду для детей и провизию. В управлении порта был взят брезент, чтобы соорудить на острове подобие палатки.
Мой Витя – человек, привыкший к морю, и потому я его отпустил, не очень опасаясь за последствия.
По рассказам Ковальченко, они благополучно прошли пролив, ориентируясь на скадовские огни, но при подходе к острову попали в сильный накат волн. Витя и Ковальченко соскочили в воду, чтобы подтянуть шлюпку. Волна опрокинула Витю, он упал и, очевидно, волна ударила его с большой силой головой о киль шлюпки или килем его прижало ко дну – понять трудно, но он исчез. Только через десять минут Ковальченко разыскал его тело в прибое. Вернуть к жизни его не удалось.
Хоронили его в Скадовске. На похороны собрался весь город. Его очень любили здесь, особенно рыбаки, и даже гордились им, как своим земляком, читая в газетах о его прекрасных постройках.
Остался у меня еще один сын в Ташкенте, но тому далеко до этого. О том, что я сейчас чувствую, как проходят дни – писать не буду, ибо знаю, что трудно понять стариковское горе. Если будет желание и случай побывать в Скадовске – обрадуете меня очень. Живу я небогато, как и пристало отставному смотрителю порта, но, думаю, не взыщете.
Уважающий вас Б. Гофман».
– Что за шутки! – Метт криво улыбнулся.
Он подошел к окну, боязливо развернул письмо и прочел его вторично. Испарина выступила у него на лбу.
– Как же так? – хрипло сказал он, надел шляпу и вышел на Остоженку. – Как же так? – повторял он, наталкиваясь на прохожих.
Он остановился и долго смотрел на розовую афишу. Издалека могло показаться, что Метт ее внимательно читает. Но он не читал, он прислушивался: внутри у него натягивалась, звеня и вздрагивая, стальная струна. От этого сильно болело сердце. Метт ждал, что вот-вот струна лопнет и вместе с нею разорвется сердце.
Струна перестала дрожать. Она напряглась и тянула сердце к горлу. Метт вздрогнул и слегка вскрикнул – струна лопнула, но сердце не разорвалось. Оно забилось радостно и быстро, и Метт, пошатываясь, отошел от афиши.
«Надо к Лузгину», – решил он. Он вспомнил, что у Лузгина сегодня выходной день. Где он может быть? Конечно, на реке. Тогда Метт как бы увидел афишу, перед которой стоял, отпечатанную гигантскими белыми буквами на синем и свежем небе. Буквы сложились в слова:
«Водная станция „Динамо“».
«14 августа гребные состязания Ленинград – Москва».
Метт свернул к Крымскому мосту, на станцию «Динамо». Пестрота, флаги, плеск воды, блеск неба и гомон пловцов несколько его успокоили. На вышке он увидел Лузгина в синих плавках. Лузгин крикнул, полетел с вышки, изогнувшись дугой, и поплыл «брассом», отплевываясь и разбивая головой воду.
Метт спустился на плот и окликнул Лузгина.
– Старик, раздевайтесь! – прокричал Лузгин, подплывая, но потом нахмурился, вылез и, отряхиваясь, подошел к Метту.
– Неладный вид у вас, – сказал он строго.
– Вот, получил письмо… – ответил Метт, не глядя на Лузгина. – Гофман, оказывается, утонул.
– Бросьте!
– Вот письмо.
Лузгин письма не взял – у него были мокрые руки.
– Черт знает, – промолвил он, – какая чепуха. Метт рассказывал о гофманской смерти, Лузгин слушал его, одеваясь.
– Что ж, – сказал он, помолчав, – тяжело. Но не в этом, конечно, дело. Надо жить. Пойдемте, выпейте черного кофе, успокойтесь.
На легкой террасе, похожей на палубу парохода, хохотали девушки в купальных костюмах и спорили гребцы с нашитыми на груди номерами. Лузгин и Метт сели у барьера. Метт молчал и смотрел вниз, на лодочную пристань. Голый мальчишка бегал по ней, радостно шлепая по горячим доскам мокрыми ногами. Метт с зоркостью, какая бывает во время резкой смены обстановки, рассматривал загорелые руки, синие от неба скатерти, слушал восторженный визг детей.
– Когда гонки? – спросил Метт.
– Не скоро. Сейчас только десять часов.
Метт удивился. Ему казалось, что было гораздо позже.
– Я сейчас еду к Леле. – Лузгин смутился. – Она на отдыхе в «Пятом дне». Придется ей сказать.
Метт кивнул головой.
– Да, – продолжал он, – умер великий отгадчик. Ну что ж, вы правы, продолжаем жить.
Они расстались. Метт остался посмотреть гонки, а Лузгин поехал на Брянский вокзал.
Приезжать в «Пятый день» было неудобно, и Лузгин условился с Лелей встретиться на дороге в лесу, около межевого столба.
Лето стояло жаркое. Над порубками и высохшими болотами висела гарь. Дороги пахли пылью и дегтем. В лесу уже желтели березы. Чтобы сократить путь, Лузгин пошел прямо через порубку.
В лесу среди желтеющих берез он увидел Лелю. Она шла ему навстречу. Тени бежали по ее лицу и легкому шуршащему платью. Она приближалась стремительно. Зной схлынул. Леля несла с собой свежесть, неясную радость, дыхание осени, просторы, тревогу их недавней любви. Она шла как бы из тех стран, где тлели облака.
Лузгин остановился, пораженный.
– Ну вот, – Леля быстро подошла и легко сжала руки Лузгина.
– Леля, – сказал поспешно Лузгин, – Гофман…
– Да, я знаю, – Леля спокойно взглянула ему в глаза. – Он умер. Я получила открытку от его отца. Ну что ж. После его смерти я не могу избавиться от очень легких мыслей – не понимаю почему. Он хорошо умер. Он научил меня не бояться жизни.
Лузгин, слушая ее, смотрел на облака. Ему казалось, что за мглой дыма он различает огромную страну, откуда пришла сейчас Леля, – страну, прозрачную от воздуха и солнечного блеска. Таким, должно быть, представляли себе золотой век наши дикие и мечтательные предки.
***
Константин Паустовский. Рисунки: Юрий Пименов. Публикуется по журналу «30 дней», № 9 за 1931 год.
Из собрания МИРА коллекция