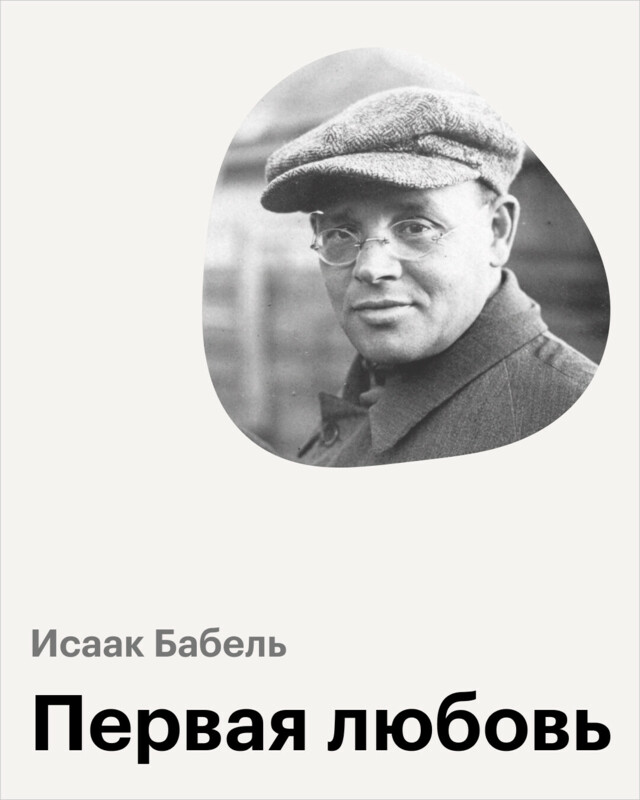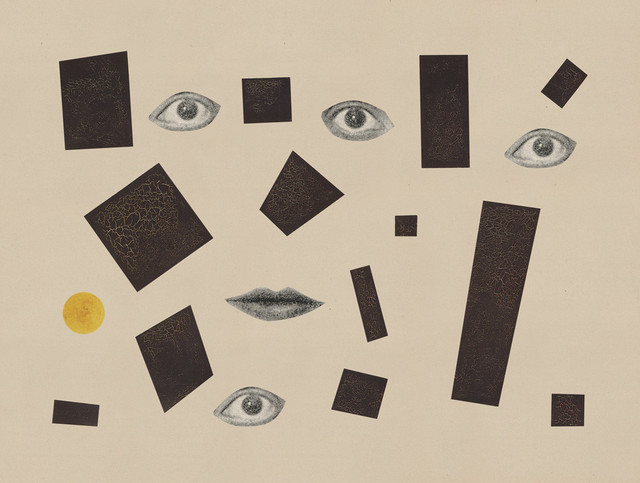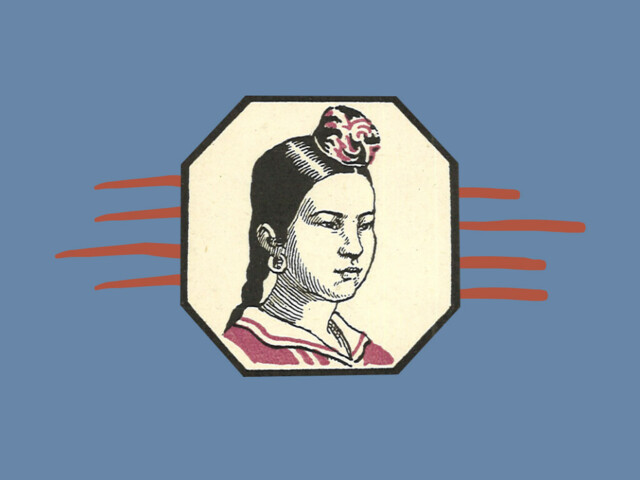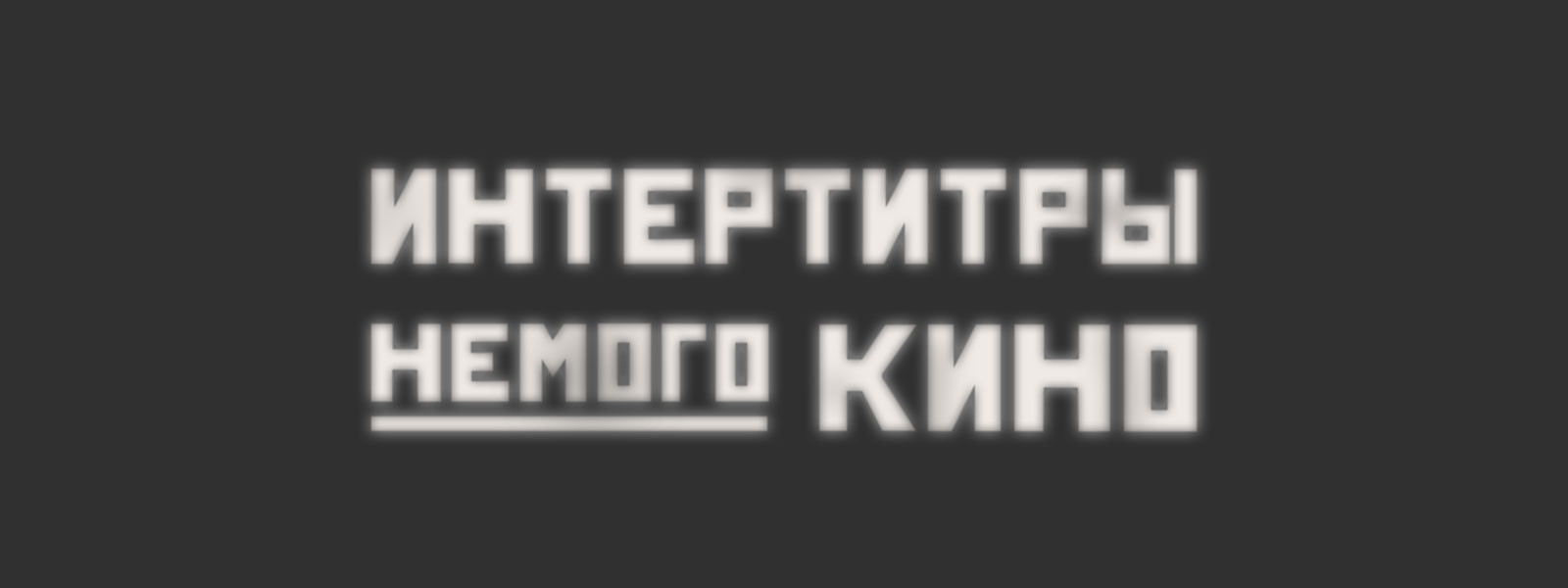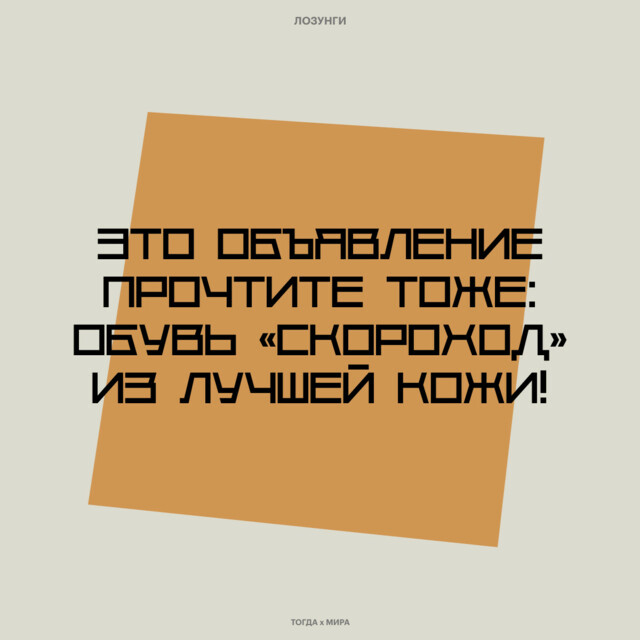«Два брата». Илья Эренбург
Недоверчиво, взглянул Ольсон на Михайлова: хорош должен быть человек, способный на такое дело!.. Здесь сказался пуританизм иончепингского бюргера — ни грязных женщин, ни предательства! Однако перед ним были глаза ясные и прекраснодушные, никак не отвечавшие всем его преставлениям о наемном убийце. Уж не ошибка ли это?.. С русскими вообще трудно работать. Вдруг этот детина окажется каким-нибудь блаженным из Достоевского?..
— Я не доверяю никаким политическим организациям. Мы сможем с вами сговориться только в том случае, если вы действуете за свой страх.
Михайлов продолжал столь же умилительно поглядывать на загадочного иностранца.
— Что ж, я готов...
Тогда Ольсон, больше не думая ни о значении глаз, ни о русской литературе, перешел прямо к делу:
— Фабрика «Октябрь». Это в Гомельской губернии. Я даю средства и документы. Потом — меня нет. Это ваши личные счеты с вашим правительством. Вы меня понимаете?..
Михайлов ответил не сразу; если бы Ольсон продолжал его рассматривать, он, наверное, заметил бы, как неожиданно потемнели зрачки, как легкая судорога свела лицо, как сразу постарел этот рослый младенец, которому, правда, уже тридцать восемь лет, но который только что поразил Ольсона своей ребячливостью. После некоторой паузы, заполненной, очевидно самыми неприятными мыслями последовал достаточно удививший Ольсона вопрос:
— То есть вы под этим подразумеваете чеку ?..
Не так-то легко им было понять друг друга. Михайлов: «для блага моей родины»...
Ольсон тотчас же: «да, да, вот именно»... Было здесь не мало слов вдоволь банальных, однако произносимых с дрожью: оба пуще всего боялись остаться голышом; притом рискованность предприятия, слово «смерть», хоть и не вырвавшееся наружу, но сидевшее, где-то под ложечкой, требовали патетичности.
Михайлов настаивал:
— Я хочу нанести им серьезный удар...
Глаза же благожелательно улыбались; вот точно так улыбались они, когда, подметив пошлые заигрывания своего однокашника Фехта с Лелей Туриной (в прошлом— дочь тайного советника, ныне же — кельнерша ресторана «Волга»), Михайлов залепил обидчику оглушительную оплеуху. Он человек храбрый, но не драчун. Что касается большевиков, на это у него свои резоны... Правда, по его же словам, он в политике «ни хрена не смыслит», и слава богу, «политика — дерьмо»...
Но вот — ротмистр-удалец, лев, именье в Тверской губернии, котильоны, ножка Вари Тучковой — и где же он теперь? — не на коне, не скользит по паркету, даже не рубит, нет, уныло он нажимает педаль, гудит, а потом смотрит на счетчик, словом, он вульгарнейший шофер, обреченный на протоколы и на чаевые, на препротивное разглядывание монеты, всунутой в руку ночным гулякой, — сколько заблагорассудилось заграничному Михайлову, тому, что теперь кутит и повелевает, уделить от своих щедрот продрогшему двойнику... Однако забудем о богатстве! Михайлов чуть-чуть не сделался коммунистом: 1 Мая он бастовал, и не за страх, протестуя этим против сильных мира сего, против тех, что суют обидный франчишко, раскидав предварительно в «Севилье» или в «Монико» несколько тысяч.
***
Как ни чудно это, Михайлов, который сражался в кубанских степях со своей российской голью, искренно именует себя теперь «пролетарием». Богатство кажется ему оскорбительным. Особенно ненавидит он французов: для них у него одно слово —«лягушатники». Вот хорошо бы показать им «трудовые повинности»! Снега, правда, здесь, нет, но пусть, сволочи, копаются в мусорных ящиках или же чистят сортиры!.. Жаль, жаль, что знаменитое безобразие приключилось не здесь!..
Дело, таким образом, не в идеях, но в обиде. Те большевики, наверное, кутят не хуже Михайлова, у нас умеют кутить, не скупясь, без этой лягушечьей экономии. Теперь большевики — господа, а он — шофер парижской компании на процентах, мелкая сошка.
Прибавьте ко всему вопрос крови, то есть судьбу двух братьев Михайлова: младший Коля, не сдрейфил, не предал ради коечной соломы традиций — от эполет покойного рара, до упоительного вальса с институтками; щуплый, конфузливый, — вот и в корпусе издевались — «девчонка», маменькин сынок, которому прочили бесславное хозяйничанье под каблучком какой-нибудь уездной мегеры, он пошел один против всех, чтобы закончить свои дни на киевском пустыре. Это — одна обида, другая еще сильнее: старший, Иван, тот перекинулся; подкупили его, и глядите-ка: товарищ Михайлов сидит теперь в Военной академии... Может ли Михайлов средний, — тот, что шофер, — спокойно развозить по домам беззаботных лягушатников?..
Сначала он ждал переворота, восстания мужиков, вмешательства Англии, словом, обязательного чуда. Каждое утро он схватывал газету, как письмо любимой девушки; но шли годы: газеты неизменно писали «этой осенью» или «этой весной». Он попробовал было пойти на собрание, там болтуны спорили друг с другом о «форме правления».
Месяц тому назад наконец-то напал он на верных людей. «Поезжайте в Россию», — это звучало благородно и, если угодно, весело кончались: план города, палочка полицейского, водка в ресторане «Волга», грошовые забавы с нищими француженками или с изголодавшимися женами своих же товарищей, когда приходится среди самых горячих лобызаний трусливо шептать: «Смотри-ка, последний трамвай пропустим», кончались окаянные чаевые, все кончалось; он поедет в Москву, там он взорвет «чрезвычайку», а потом Военную академию...
***
Полным решимости нашел его Гирн.
— Вот вам тысяча франков. Вы поедете в Берлин. Там вы остановитесь в гостинице «Бреславль». Я разыщу вас. Вы должны встретиться с человеком, от которого много зависит.
Таинственность никак не удивила Михайлова: ясно, что в таком деле надо уметь и помалкивать. На (прощанье он выпил и здорово выпил, все в той же «Волге». Он не скрывал от себя опасности: скорее всего его ждет судьба Кольки; зато перед смертью он им покажет!. У этого неизвестного субъекта или деньги, или связи. Михайлов будет настаивать на отряде из четырех: Шайко, Журавлев, Таубниц, Голубев, и, конечно же, на динамите.
Он пил за рюмкой рюмку. Шайко, пока что боясь лишиться заработка, как всегда, тренькал на балалайке. Любители подхватывали: «Выплывают расписные»... Леля Турина принесла котлеты с пюре. Тогда Михайлов встал, церемонно поцеловал ей руку, хоть и с тщательно отполированными ногтями, но шершавую — приходилось на кухне помогать судомойке, — и сказал:
— Леля, я, может быть, ради вас на смерть иду. Но это не важно... Жаль мне только вас — вот чаевые, лягушатники...
От жалости он разбил рюмку, топча ногой осколки—так их... Он искренно сейчас верил, что любит Лелю и что подвиг его связан с этой, как и он, несчастной девушкой.
Кто-то равнодушно крикнул:
— Еще одну порцию пожарских и маленький графинчик!..
Недоуменно поглядела Леля на своего подвыпившего почитателя: с чего это он?..
Потом, улыбнувшись, что входило, впрочем, в ее обязанности, она побежала к другому столику: какой-то неизвестный Михайлову шофер давно уж в нетерпения постукивал ножиком.
Все это показалось Михайлову нестерпимо обидным: и бесчувственность Лели, и балалайка Шайко, и особливо наглость шофера, который помешал ему рассказать девушке о своих чувствах. Он подошел к невеже и строго спросил:
— Прежде всего извольте ответить: вы лягушатник или честный офицер?
Увел Михайлова Шайко, шептавший на ухо:
— Брось!.. Так ты все дело провалишь, Лучше-ка выспись перед дорогой!..
***
Свиданье с Ольсоном было назначено в загородной гостинице, где якобы проживал Гирн, известный Михайлову под фамилией Тиссера. Ольсон продолжал оставаться таинственным иностранцем, который ненавидит большевиков.
Предложение о поджоге спичечной фабрики застало Михайлова врасплох. Кто же этот немец?.. Уж не провокатор ли?.. А может быть, мистификация?.. Пошутили. Но тысяча франков?.. Что же, с жира бесятся? Какое кому дело до спичек? Если уж поджигать, то арсенал.
С жаром доказывал Михайлов Ольсону: «вся беда в чрезвычайке». Он думал, что перед ним иностранец, плохо разбирающийся в русских делах. Он объяснял ему, что такое Чека.
— Я с вами вполне согласен. Бить надо по голове. Поэтому я и настаиваю на спичках. Чекистов много. В лучшем случае вы убьёте десяток. Найдутся другие. Не то со спичками. Вы, конечно, знаете о так называемом «пятилетнем плане». Большевики принуждены сейчас покупать машины. Для этого им нужна валюта. Хлеба они вывозят мало: у самих нет. А вот нефть или спички! Не улыбайтесь! Этими спичками они и держатся. Если вам удастся поджечь «Октябрь», вы такой удар им нанесете, что не скоро они опомнятся...
Ольсон говорил долго и, как казалось Михайлову, убедительно. Вот так штука!.
Почему же газеты никогда не писали о тех же спичках?.. Это ведь поважнее «формы правления»!.. Михайлов наконец-то заглянул за кулисы, ему открыли «секрет». Это было увлекательно и однако же неприятно.
Пропадала романтика: пусть спички и важнее, но все же куда эффектнее взорвать Чеку!
Впрочем, не довольно ли красивых жестов? Хватит с него и кубанской эпопеи! Большевиков чувствами не проймешь. Да и все теперь погрубели. Почему Иван перекинулся ?.. Очень просто: обеспечили. Вот только он, экс-шофер парижской компании, полураздавленная тварь, все еще мечтает о подвиге.
Немец прав: большевиков следует бить по карману.
Но ему-то, Михайлову, какая от этого польза? Фабрика сгорит. Его расстреляют. Он даже не насладится местью. Никто не узнает о его героической смерти. А если и скажут Леле, что ее поклонник поджег спичечную фабрику, она удивленно усмехнется: почему спичечную?
Михайлов пробовал еще спорить. Он уговаривал Ольсона, он просил его, как ребенок: чеку, ну, пожалуйста, Чеку!.. Но тот, утомившись, отрезал:
— Если вы не согласны, мы можем на этом закончить беседу...
***
Тогда встала перед Михайловым ночь, густая парижская ночь, стоянки на углах, музыка, долетающая из недоступного для него кабака, чужие женщины, чужое веселье, туман, фонари, тяжелый сон в нетопленной конуре «Hotel Barcelone».
Неужто назад?.. Балалайка Шайко?.. Чаевые?.. Нет, все, что угодно, только не это!
Пусть спички, пусть пуля в затылок, пусть собачья смерть на загаженном пустыре!..
— Хорошо. Я согласен.
Ольсон сразу оживился. Он дал ряд указаний насчет фабрики. Г-н Тиссер снабдит Михайлова документами. Что касается расходов, то пусть Михайлов не беспокоится: ему будут выданы и доллары и червонцы. Ещё один вопрос...
Ольсон мнется: он не любит об этом говорить. Как будто натолкнулся он, гуляя по весенним улицам, на черные дороги.
— Я, конечно, надеюсь, что ваша экспедиция закончится удачно и что мы с вами через месяц узидимся. Но на всякий случай я должен спросить вас... Вели случится несчастье... Если вы там задержитесь... Словом, вы меня понимаете... Я хотел бы обеспечить... Вы женаты?..
Грустно усмехнувшись, Михайлов отвечает:
— Скорее всего пристрелят. У меня уже одного брата вывели в расход... Только я смерти не боюсь. Лучше, чем так прозябать... Женат — я не женат, одинок, как собака; но, если вы уж настолько человеколюбивы, помогите в случае финала одной девице, скажем. Что она моя невеста. Это, видите ли, кельнерша в Париже, ресторан «Волга», мадемуазель Елена Турина.
Ольсон смущён: к смерти примешалась женщина. Из угла смотрят на него глаза Эдит, смотрят жалобно и в то же время злобно. Глаза осуждают. «Пристрелят» — это ведь значит яма, черви. Тьфу!. Неужели нельзя прожить без этого, не залезая, что ни минута, в кладбищенскую глину, где уже ползают, снуют, копошатся...
Прощаясь, Михайлов решился спросить Ольсона о том, что смущало его во время достаточно диковинной беседы:
— Простите мое любопытство. Но как человек в некотором смысле обреченный, я позволяю себя спросить вас: кто вы такой? То есть не в имени дело. Сохраним полную конспирацию. Только почему вы, иностранец, так увлечены нашими идеалами? И потом: как это вам пришла в голову вот вся махинация со спичками ?..
Ольсон встал, высокий, светлый и нежный (таким изображают его журналисты: мечта девушек, сон министров, Свен с далекого Севера), встал, слегка наклонил голову и ответил, хоть вежливо, однако же властно, не допуская никаких дальнейших обмолвок:
— На этот вопрос я не считаю возможным ответить. До свидания. Желаю вам успеха. Теперь вами займется господин Тиссер.
Из соседней комнаты выбежал Гирн и, обнимая Михайлова за талию, ласково вытолкал его:
— Вот вам сто марок на мелкие расходы... Завтра, в четыре часа кафе «Imperator» — это на Потсдамерплац.
***
Человеческие дни полны разногласицы. Ночь, однако, всех примиряет, и столь разные главы из жизни дипломатов или наемных преступников кончаются той же банальной, как смерть, страницей.
Далеко за полночь, блуждая по Курфюрстендамму, Михайлов попытался смягчить режущую боль компрессом, если не участия, то хотя бы затверженной ласки. Он подманил девушку; они пошли в «номера». Там, неожиданно рассеянный, Михайлов вдруг спросил свою партнершу, которая аккуратно раздевалась:
— А сколько ты берешь за это?..
Он путал немецкие и французские слова. Девушка кокетливо улыбнулась:
— Подари мне двадцать марок!
Михайлов захохотал:
— А мне вот сто положили и еще доллары дадут, сволочи!..
Он перешел на русский — пусть не понимает! Разве кто-нибудь поймет это? Звери — люди, хуже собак — те хоть под хвостом нюхают!..
— Спички придумал, проклятый! Может быть, у него фабрику отняли, вот он и злится. А я-то при чем?.. У меня брата убили... Он из русской немчуры, только прикидывается, что не понимает. «Немец-перец-колбаса»... Ему здесь хорошо — сосиски жрет... А меня —тютюшеньки. И никто этого не оценит. А если у человека внутри болит?.. И Лелька не понимает. Ей бы тряпки, да в дансинг. Ну, ответь мне, что такое, с позволения сказать, человеческая жизнь?..
Немочка, не понимая слов, смешливо повизгивала; ей казалось, что кавалер шутит.
Проснувшись под утро, с недоумением посмотрел Мяхайлов на стенку, изукрашенную . похабными открытками и клопиной кровью. Вот оно, начинается!.. Перед ним был пустырь.
***
А Ольсон работал. Оп успел уже позабыть о каком-то чудаке с чересчур ребячливыми глазами. Мало ли людей на свете? Иногда попадается препротивное: сдох же старый Томсон... Ольсон не «стервятник», нет, он обыкновенный человек. Сейчас он занят голландским маргарином: предвидится возможность взять все дело под контроль. Необходимо, чтобы Гирн выяснил, как обстоит дело с норвежцами: пойдут ли они на уступки?..
Дня три спустя Гирн докладывал:
— Русский сегодня уехал. Через Львов.
Я надеюсь, что все будет благополучно. Нам тотчас же сообщит атташе. Что касается маргарина, то норвежцы согласны. Вам остается закончить с Эндемом. Может быть, вы поедете в Амстердам? Здесь я управлюсь. Вот только, если возможно, поговорите еще разок с Перлем. Русские подняли шумиху. Правда, мы обезвредили почти всю прессу, но теперь как раз время выступить Перлю.
***
Ольсон пригласил журналиста провести с ним вечер в «Эдене». Он несколько запоздал. Метрдотель, деликатно извиваясь, подвел его к заказанному заранее столику. Рассеянно Ольсон глядел по сторонам: он думал о маргарине. Кто-то поклонился. Блеснули стекла лорнетки. Вдруг перед ним оказались глаза, большие и укоризненные. Что за напасть? Уж не спит ли он?.. Ведь это, кажется, та самая девушка...
Ольсон понятное дело, не спал. Просто Перль малость покуралесил: на это деловое свидание пришел он со своим новым увлечением. Он хотел показать Ольсону, что писатели люди независимые; надо считаться даже с их причудами. Потом Эдит мечтала еще разок увидеть сказочного миллионера, который так забавно на нее поглядывал. Перль не ревнив. Что от нее убавится?.. Прибавиться же может многое, например колье или автомобиль. Почему бы и не побаловать девочку ?..
Так Эдит неожиданно оказалась в «Эдене»; с ее глазами и встретился Ольсон. Он невольно зажмурился. На этот раз он не думал ни о фру Бек из Упсалы, ни о мраморной Диане, ни о столь пугавшем его чувстве. Он ни о чем не думал. Перед ним были глаза, и он сам бы затруднился ответить, кто это на него смотрит: знаменитая актриса Эдит Хан или же русский бродяга, которого он сегодня отправил на пустую и бесславную смерть?..
***
Иван Александрович Михайлов, тот, о котором твердил его братец: «Большевики подкупили», живет только по московским понятиям мизерно: ставки низкие, а тут еще болезненная жена и трое ребят.
Правда, другой какой-нибудь да выкарабкался бы, но Михайлов честен и неуклюж, никак не поспевает он за всеми уловками обывателей, не умеет он ни работать спустя рукава, ни подличать, ни отбивать у сотоварища лакомый кусочек. Вот даже жена, тишайшая Дарья Ивановна, попрекает его: «нельзя так, Ваня!.. нельзя так, Ваня!».. «Времена теперь не те»... Но он только кротко отмахивается.
Революция многим богата: пафосом, героизмом, отвагой, но революция не школа добродетели. В итоге после десяти лет работы Михайлов должен каждый вечер выслушивать жалобы жены. Молодым, тем легко, а Михайлову уже под пятьдесят. Он завидует и подросткам, и партийным; для них все полно значения. Порой он завидует даже своему покойному брату Николаю. Не все ли равно, за что он боролся?.. Ошибались все: и те, и эти. Все забудется, все простится, останется только правда о честных людях.
Вот уж кому нельзя позавидовать, это второму брату, Василию, тому, что в Париже. Смерть со всем примиряет, но этот еще жив, он ушел от своих, и теперь погибает он где-то среди людей заведомо равнодушных. Обидная участь! Это горше недоверия, насмешек, всего, что переносит из года в год Иван. А Коле все равно — умер, и нет его... Впрочем, и это слабость: надо жить, пока есть еще силы!..
***
Жил Михайлов в одном из переулков Остоженки, в маленьком деревянном домишке, живет и в тесноте; и в обиде. Рядом с ним помешаются Соловьевы, и даром, что Соловьевы превосходно устроились в рыбном тресте, он, да и все его домочадцы ненавидят Михайлова, за глаза его ругая, а при встрече язвительно усмехаясь: «ботиночки новые!.. Вот что значит примазаться!..»
Наверху живет коммунист Скарьянц. Этот тоже недолюбливает Михайлова: «Как, милый мой, ни старайся, а за тридевять верст разит офицерщиной!.. Надо за такими смотреть в оба, они опасней открытых врагов...»
И Скарьянц смотрит, под его пронизывающим взглядом летит из рук бедной Дарьи Ивановны чашка со столь драгоценным молоком.
Жизнь, что и говорить, невеселая. Но Михайлов, собираясь с духом, работает; он приставлен к ответственному делу — к защите страны, точнее — к воздушному флоту. На очередную выходку сэра Вильяма, на мечты Ольсона, на новую речь Бернара в Палате депутатов Михайлов отвечает бессонными ночами, работой ясной и жестокой.
Вот и сейчас сидит он над докладом молодого инженера. Давно спит крохотный домик, спит безмятежно Соловьев, сегодня на «чистке» блистательно доказавший свою пролетарскую сущность, спит бдительный Скарьянц, спят дети, тиканье часов совпадает с дыханием. Только Михайлов все еще бодрствует. Стук в дверь. Кто же это в такой час?..
Растерянно щурясь, разглядывает он тень.
***
Не узнал?..
Брат! Василий!.. Да, конечно же, он!.. Если и глаза не те, пополнел, волосы побелели, но голос-то прежний... А не ждал, это правда, никак не ждал. Иван лопочет:
— Как же ты так?.. И не написал ничего!..
Василий томительно улыбается:
— Может, ты и знать меня не хочешь? Так ты скажи, я не гордый, прошел через парижскую школу, я и уйти моту...
— Да что ты вздор мелешь? Вот только не верится... Как же тебя пустили?.. Теперь ведь трудно это...
Василий ничего не отвечает. Он все так же стоит у двери, бессмысленно усмехаясь.
— Да ты садись. Комната-то у тебя есть?.. Ну, так я тебя здесь устрою. Устал?.. Я сейчас самовар поставлю.
— Не нужно. Я не пью чая. Отвык. Водки нет? Вот это жаль! Можно сказать, единственная радость, все, что нам осталось от матушки-России.
— Да, Вася, трудно тебе будет. Что ты здесь делать будешь?.. В этом-то и вся загвоздка... Я не об идеях говорю, об обстановке. Там ты, наверно, уже обжился. Что ж, потянуло?.. Я и то тебя жалел: тяжело, должно быть, все время болтаться по заграницам. Ну, брат, рассказывай! А то я все трещу. Как тебе там жилось?.. Как нас нашел?..
Василий не откликался. Он присел на сундук, присел робко и неуверенно, будто зашел на минуту. Глядел он не на брата, но в сторону и все молчал, молчал.
Он очень изменился с того дня, когда он смутил Ольсона и своим наивным романтизмом, и особливо усмешкой: «Что ж, смерти я не боюсь...» Он как-то обмяк весь, почернел; несмотря на то, что одет он был прилично, куда лучше Ивана, можно сказать, что он опустился.
Объяснения надо искать не в водке, которая действительно, являлась единственной его «радостью» во всей томительной суете этих трех недель. Он что-то делал, ходил по указанным адресам, прятался с Шайко в амбаре, отсылал условные открытки, но все это казалось ему непомерно длинным сном. Он как бы повиновался чужой воле.
Сколько раз хотелось ему подойти к милиционеру и, грубо выругавшись, крикнуть: «Что же ты меня не хватаешь, сукин сын? Я вот ваше добро подпалил...»
Удерживал его не страх — он сказал Ольсону правду: смерти он не боялся, но ясна была дорога — от ресторана «Волга» — к стенке, и он должен был пройти ее до конца; этого требовало душевное оцепенение, усталость, сознание своей обреченности.
***
Ольсон уже знал об удачном исходе предпринятой им операции. В телеграмме одного из близких ему посольств сообщалось, что спичечная фабрика «Октябрь», подожженная «неизвестным лицом», сгорела до тла. Получив радостное известие, Ольсон даже не припомнил лица русского, которое, однако же, не раз мерещилось ему во время его болезни, нет, он только удовлетворённо кивнул головой: может быть, это их образумит!.. Ведь фабрика «Октябрь» была заново оборудована?
Немало вот таких Михайловых переходят или переезжают границы Советской республики, отправляемые рассерженными европейцами, которые не могут глаз отвести от бакинской нефти, от леса, от марганца.
По большей части они гибнут, даже не выполнив порученного им дела. Слишком трудно укрыться им среди русской толпы, всем этим кубанским парижанам или берлинским астраханцам, отвыкшим от родного языка, ничего не смыслящим в новом быте, как бы помеченным клеймом «чужой». Их ловят в одной из пограничных губерний, на первой же узловой станции или, если уж удалось им добраться до Москвы, где-нибудь на людной Петровке.
Но вот Михайлову повезло; зная его предшествующую жизнь, мы должны сослаться исключительно на счастливую звезду Ольсона: повезло, конечно, не жалкому бродяге, но прославленному своей удачливостью «королю спичек».
***
Из всего запомнилась Михайлову ночь в лесу накануне решительного дня: там встретился он c Шайко. Для каждого горожанина лес связан c детством, с грибами или c ягодами, c ауканьем, c перевернутым на спину жуком, с запахом мха, с клочьями синевы над головой, когда лежишь и лениво смотришь в высь. Михайлову показалось, что он просыпается; он долго, очень долго спал, гудки автомобиля, кривые улицы, газеты, чаевые, какие-то подозрительные немцы с их спичками, — все это ему только приснилось. Он в лесу. Он в России. Может быть, он просто на даче ?..
К порядку призвал его Шайко, в душе тоже смутный и неуверенный, но пуще всего боявшийся «раскиснуть». На нелепый вопрос Михайлова о том, «не послать ли все к чёртовой матери?» — он презрительно ответил: «Ты что, брат, в Париже вовсе обабился?..» Дороги назад не было. В Гомеле их ждал третий соучастник, некто Голубев. Лес остался вздорным воспоминанием.
Теперь все сделано. У Михайлова литовский паспорт и деньги. Он может вернуться в Париж к Леле, которая, наверное, оценит чувства храбреца. Но почему же молча сидит он на сундучке, не вслушиваясь в слова брата, почему он думает не о подожженной фабрике, даже не о Леле, но вот снова о той глупой ночи в лесу?..
***
Его приводит в себя неуместный вопрос Ивана:
— Доволен ты, что домой приехал?
На минуту в нем подымается забытая было злоба. Правда, живет он не ахти как. Но все-таки вот живет, еще двух девочек успел родить, словом, благоденствует. Можно ли сравнить это с адом Василия?.. Нет на земле справедливости! Иван — предатель, и за предательство ему ниспослано все его похабное счастье. Василий злобно отвечает:
— Ты что же «домом» называешь ?..
— Россию, или, как теперь говорят у нас, — СССР.
— Нет никакой России. Похерили ее твои господа. Вместо России сплошной капонир.
Ты, Иван, пожалуйста, не улыбайся, как херувим, я твои улыбочки знаю. Тридцать сребреников — вот тебе цена! Я в Париже застрелить тебя хотел, а теперь не бойся, не трону — руки марать противно. Но только одно я тебя хочу спросить: почему это ты задаешься?..
Иван не улыбался, уныло глядел он на брата. Вот и Василий... Как Соловьевы... Стоит ли твердить о своей честности? Но ведь это брат, и брат говорит ему: «тридцать сребреников».
Иван ответил тихо, задумчиво, как бы разговаривая сам с собой:
— Ты очень озлоблен, и это понятно. Наше поколение пропащее. Я вот и сам себя часто ловлю на мысли: ну, правильно — история, будущее, победа, а ведь пожить-то мы не успеем, так и умрем. Однако не в этом дело. Растут дети, они увидят. Многое и мне неясно, я ведь не партийный, так только, «спец». Часто, по-моему, они ошибаются. Да как же не ошибаться? Все приходится делать заново, а тут еще страна нищая, разоренная, малограмотная. У других бы давно руки опустились, а они ничего, еще держатся. Я даже удивляюсь — не люди это, не гнутся, железные они. И вот сколько бы они ни ошибались, дело их все-таки правильное. Раньше кто жил? Мы. Теперь, ты скажешь, всем плохо. Это правда. Я тебе сразу сказал: в Париже, наверное, куда легче. Но только будущее здесь. Пройдет двадцать или тридцать лет, все мы перемрем, а вот это останется. Забудется все, что было дико и бессмысленного, время свое сделает, и тогда-то весь мир поймет, что мы успели сделать вот в таких свинских условиях, когда буквально жрать нечего, когда все против нас, когда рядом с большими чувствами разыгрались мелкие страстишки: злоба, зависть, чванство. Они говорят — «СССР», я, по старой памяти — «Россия», но не в имени дело; на нашу родину возложена высокая миссия; она первая в мире попыталась наладить новую жизнь. Трудное это дело! Но только я горжусь моим народом. Он поведет за собой всех. Знаешь, как раньше французы. Теперь роли переменили... Твой Париж — это, наверное, глухая окраина, вроде России Павла.
Коммунисты скажут, что я «националист», но это не так. Просто я понимаю роль России. Она теперь впереди. Это значит, что у нас расцветут и науки, и искусства, вот погоди, дай только малость отдышаться. И как ты можешь говорить о предательстве? Я работаю над обороной. Ты вот там десять лет прожил, сам, наверное, видел, до чего они нас ненавидят. Да это и понятно: если мы управимся, им крышка. Они готовятся. Что же ты прикажешь сдаться на милость этой сволочи?.. Если у нее начнет налаживаться, они попытаются помешать нам: это будет ва-банк. А если мы снова завязнем, они первые же кинутся, что называется, «спасать», то есть за лакомым кусочком.
Ведь, пойми ты, против нас — единый фронт. Слабые не в счет, а все остальные — против.
Если ты думаешь, что я «продался», погляди, как я живу. Но только от этого я не откажусь!..
Василий плохо слушал его. «Миссия», «будушее», «единый фронт» — какие чужие и ненужные слова! Правды нигде нет, повсюду одна похабщина. Кой-кому везет, а вот ему, Василию, каюк! Но все-таки надо что-нибудь ответить этому самодовольному дураку, и Василий угрюмо говорит:
— А Колька?.. Расстреляли его.
Тяжело дыша, Иван отвечает:
— Это горе, а не довод. Он мне такой же брат, как тебе. Ты думаешь, я не мучился?
В те дни никто ничего не понимал. Он вот верил, что правда на стороне тех. Не спрятался. Умер героем. А теперь совсем не то, теперь они прекрасно понимают. Они работают на какого-нибудь Детердинга. Они готовятся к войне против своего же народа. И ты мне о Николае не говори! Он не ваш. Он уже вне спора. Он это по любви сделал, а вот ты попросту ожесточен. Я даже не понимаю: жил бы и жил бы себе в Париже — и легче, и как-то больше в лад с твоими чувствами...
Если бы Иван спорил, горячился, ругался, Василий, может быть, ограничился бы ничего не значащим ответом: «мое дело», или «хотел посмотреть», но спокойный голос брата вывел его из себя. Уж ни о чем не думая, он выложил все: и про Берлин, и про фабрику, снабдив это рассуждениями Ольсона: «Надо их бить по головке, спички-то важнее чеки», а досказав, ухмыльнулся:
— Телефон есть? Можешь теперь звякнуть кому надо. Тебе за это повышение будет. Ну, что же ты время теряешь?..
Иван сидел, уныло согнувшись, сидел молча, и много прошло мучительных для обоих минут, пока наконец-то он не выговорил:
— Звать, я никого не позову... Будь я партийным, я бы тебя сам застрелил... А вот нет... Слабость это... Жаль! Но разговаривать нам с тобой не о чем...
— Ха-ха! Изволите презирать, товарищ Михайлов ?..
— Жаль мне тебя...
***
Слово «жаль» подействовало на Василия, как оплеуха; он даже зажмурился от боли. Не глядя на Ивана, он быстро выбежал на улицу. Был у него адрес, но он теперь и не думал о ночевке. Он и не думах об отъезде в Париж, о том, что он будет делать завтра. Объяснение с Иваном было той «стенкой», о которой он так часто помышлял. Пустырь и короткий залп... Это могло бы стать торжеством. Как-никак он не струсил, он довел дело до конца, он даже пошел к Ивану, что было уже явным безрассудством. Почему же отчаянье? Может быть, Иван прав? Нет, ерунда! Нашпиговали его, вот и болтает... Чинуша!. А он, Василий?.. Тоже дерьмо! Пошел ради немца на такую вот пакость... Спички!.. Ведь здесь Ивану и не возразишь: ясно — наняли. Точка. Это-то подвиг офицера... Стерва, немец голубоглазый! Сосиски ты теперь жрешь, а я вот унижен. Разве может он, понять, какую нанесли Михайлову обиду? Брат и тот сказал: «жаль». Ведь это значит, как плевок, ногой растереть. «Тьфу! Что же мне теперь делать ?.. Запутался. Ох, как запутался! В Париж с барышами?.. Заработал шофер на отхожих промыслах. Можно, например, Лельку пустить в ход: завертится — как же, вместо чаевых сразу сто долларов... А к чему, когда ничего внутри, ничевошеньки... Нет, не поеду! Баста».
Михайлов бежал по пустым бульварам, пугая редкие парочки, которые преспокойно целовались на сырых от росы скамейках. Их незатейливое дело раздражало Михайлова: вот целуются — и никаких, без спичек, без немца, без «миссии»! Хоть бы сдохли они!
Вдруг заметил он милицейского. По привычке он насторожился: надо замедлить шаг, папироску закурить — просто человек гуляет... Но сейчас же снова встало: а зачем?.. Пусть уж лучше схватят, тогда и думать не о чем... В два счета прикончат. Хоть глупо, а все-таки выход. И поравнявшись с милицейским, Михайлов остановился. Он стоял и ждал. Но милицейский не обращал внимания на взволнованного чем-то полуночника: выпил, наверное, человек... Это безразличие еще раз вывело Василия из себя.
Он начал кричать:
— Да ты знаешь, кто я? Я вашу фабрику поджег. Ну, стреляй в меня, мать твою!..
Тогда сторожкую тишину бульвара прорезал тоскливый свисток...
***
Илья Эренбург. Рисунки: Вениамин Брискин. Публикуется по журналу «30 дней», № 12 за 1932 год.
Из собрания МИРА коллекция