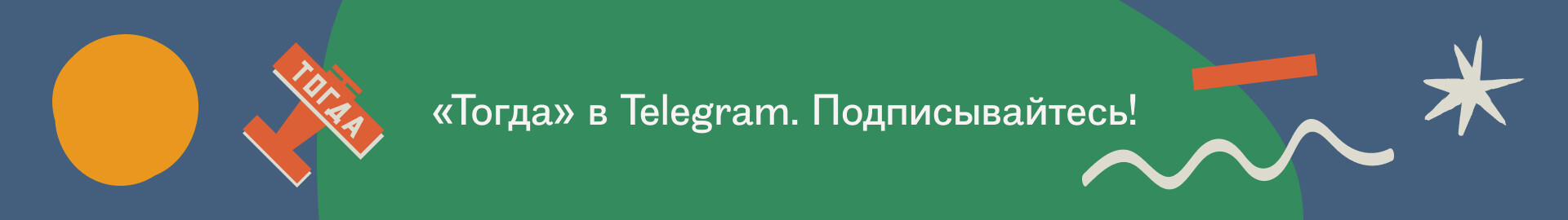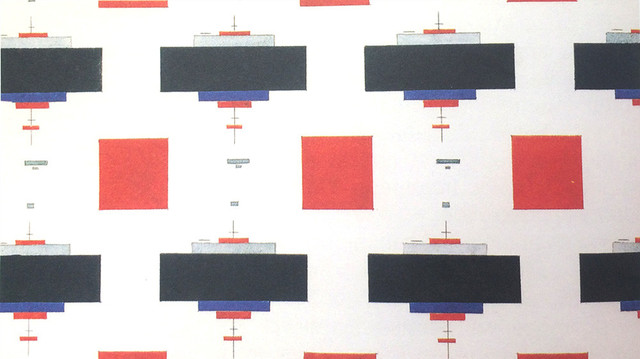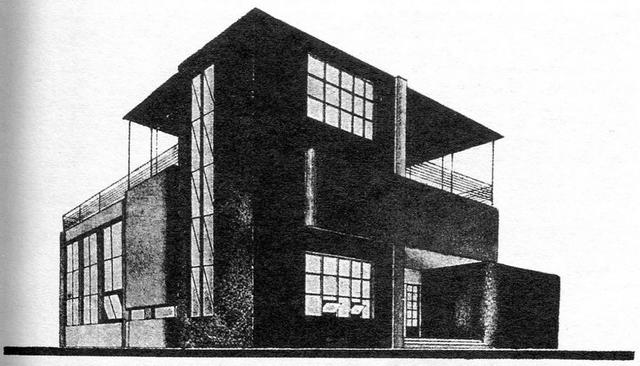Рассказ С. Гехта в журнале «Огонек», 1926 год
Пяти лет Алеша знал уже, что есть на свете свои и чужие. Со своими надо для интереса ладить, а чужих надо бить, «искоренять», как говорили взрослые. Привязанная к проволоке, бегала по двору своя собака, и до вечера Алеша натравливал ее на чужих дядь и теть, на чужих собак, кошек, петухов и девочек. Зевая и потягиваясь, ждал этот детеныш очередную жертву. Только заслышит чьи-то робкие шаги, как с гиком и свистом мчится к воротам.
— Куси, Цербер, куси!
И Цербер кусал. Если прохожий пробовал защищаться, Алеша бросался с плачем в дом, и на подмогу выбегали взрослые. С дубинами, ножами, кистенями и вилами. Окровавленный чужак убегал, но приходил через день с компанией свояков, и начиналась война. Маленькая эта междоусобица кончалась избиением и убийством, судебным протоколом и лжесвидетелями. Велико было Алешино удивление, когда он узнал, что у чужих есть тоже свои. Вскоре он примирился с этой несправедливостью и еще больше окрысился на чужих.
В сапожной мастерской, куда мальчика определили, когда ему исполнилось 12 лет, Алеша узнал, что чужие, это — «холодные» сапожники. Оседлые не любили холодных, кочующих сапожников, и Алеша стал во главе этой нелюбви. День, когда у него не было стычки с холодными, был для него пустым. Когда холодный умирал, Алеша напивался с радости и пел похабные песни.
— Наше вам с кисточкой! Холодный сдох!
За скандал в полиции его выгнали из мастерской. Родители домой не пустили, и Алеша сделался сам потихоньку холодным сапожником. Здесь начинаются его нападения на оседлых сапожников.
Алеша подобрал шпану и ходил с ней выбивать стекла у оседлых, гадить в сапожные ведра, угрожать клиентам. Оседлые собрали 20 рублей хобара и понесли приставу. Арестовали зачинщиков. Те накапали на Алешу, и ему дали два года без изоляции.
Первая неделя в тюрьме была пустой и тягостной. Некого было ненавидеть. Ненавидеть вообще Алеша не хотел. Ненавидеть вообще можно всех штымпов, которые на свободе, зексов, ментов и шпиков, но они далеко, они ограждены. Разве это ненависть, которая кипит в тебе, как борщ, и никуда не выливается? Ненависть эта нереальна, неощутима, туманна.
И Алеша возненавидел политических. Они тут же, им можно ночью плюнуть в котелок, вырезать треугольник в штанах, склеить волосы, сбрить ресницы, зажечь бумагу в носу. Политические укоризненно смотрели на него, читали мораль, но в борьбу не вступали. Это так раздражало его, что он один раз всем пуговицы обкусал. Политические на пожаловались и пришли новые. Алеше сделалось скучно, он чувствовал, что задыхается.
Надо срочно найти объект. Объект этот есть — уголовные евреи, но какое это, субчики мои, неподходящий объект! Как они не похожи на тех, которым Цербер икры просверливал. Они сами стригут политическим брови, гадят в котелки, зажигают бумагу в носу и склеивают волосы.
До положенного срока Алеша в тюрьме не досидел. В революцию толпа разгромила кутузку, и вместе с политическими вынырнула на свободу и шпана. Уголовные соблазняли его вступить с ними в союз, но от маровихерства Алеша отказался.
— Я не вор, чтоб с вами путаться.
Тайно красть и прятаться потом, чтобы никто не знал — нет, не подходящее это для Алеши занятие. Бузить надо так, чтоб все видели, чтоб штампы на корточках сидели, на карачках ползали, чтоб дым шел, чтоб свет ходором завертелся. И Алеша бузил. Винный склад разгромить — вот это дело! Плотину развернуть — вот это дело! Но украсть часы, чтобы продать их потом за два с полтиной, — фи, Алеша, фе, Алеша, фу, Алеша! До этого ты никогда не упадешь. Ты — честный бузотер, который ничем не пользуется и работает только для собственного удовольствия, но не скокарь, не маровихер, не фонарщик и не цынкач.
Когда в революцию арестовали Алешу, он обиделся так, что ревел от позора. Неважно, что он засыпался. И наплевать, что ему припаяли 10 месяцев. Но судья сказал, что он украл ридикюль. Он украл! Он! Это неправда. Дело такое было.

Гуляла вечером по бульвару парочка. Он в соломке, она в мантильке, он с папироской, она с ридикюлем. На скамейке сидел Алеша с двумя помощниками. Парочка идет вперед. Алеша смотрит. Парочка возвращается снова. И тогда Алеша подходит к соломке и делает подножку. Соломка спотыкается, краснеет и уходит с дамочкой на асфальт. Алеша идет за ними и делает две подножки сразу. Парочка падает, быстро поднимается и бросается бежать.
Тогда Алеша забегает вперед и плюет соломке в глаз. Соломка молчит, он бледен и руки подрагивают.
— Ты это видал? — спрашивает Алеша и наступает ему на носок.
— Простите, — лепечет соломка.
— Ты чего? — орет Алеша.
Соломка молчит.
— Ты чего? — задыхается Алеша.
— В чем дело, товарищ? — бормочет соломка и пытается выскользнуть.
— Ах, так! — зеленеет Алеша. — В чем дело, значит? — Бац! В чем дело, говоришь? — Бац — В чем дело? — Бац, бац, бац!
Дамочка в мантильке кричит «караул», и два мента бегут на помощь.
Братва! — зовет Алеша, и помощники срываются с места.
Но менты уже на носу, они выхватили наганы, один зацепил собачку. Заваривается каша с перцем и солью.
— Драла, орлы, — командует Алеша и несется вскачь. Он оглядывается, чтобы посмотреть на своих помощников, и видит с ужасом, что у одного орла болтается в руках дамочкин ридикюль.
Сидя в камере, Алеша вспоминал этот случай со слезами. Менты арестовали их, и суд припаял им дело с грабежом. Что обиднее всего, никто не говорил о хулиганстве, — только грабеж, и больше ничего.
Алеша затаил месть, и прогулке задушил своего орла, который польстился на дамочкин ридикюль и опозорил Алешу. Убийцу осудили на 8 лет со строгой изоляцией и поражением в правах.
Делайте, что хотите — пытайте и жгите, режьте и солите, только не сажайте в одиночку. Алеша выл, бился о стены, скребся о пол, стонал, пел и ругался. Он ободрал себе грудь, залил ее кровью и его отвезли в тюремную больницу. Лечили три недели и вернули в камеру. От одной мысли, что некого ненавидеть, Алеша худел и покрывался лиловыми пятнами. Вскоре, однако, он стал замечать, что на выступ решетчатого окна садится всякая мелкая птаха— кобчик, ласточка, стриж. Алеша покраснел даже от счастья. Он выругался с восхищением.
— У, зараза, покажу вам, как на решетку садиться!
Одинокая жизнь затворника оживилась. Часами подкарауливал Алеша птиц с палкой в руках, притаив дыхание. Стоило только зазеваться, и Алеша опускал свою палку. Крохотное птичье тельце бесшумно распластывалось, еле заметное, невесомое. Незаметность эта и невесомость раздражали Алешу. Злило еще, что птицы умирали без единого звука. Алеша чувствовал себя несытым, словно курил дорогой табак. Тонко и легко — и никакого осадка, словно и не курил вовсе.
Через год Алеша бежал. Он растравил себе ногу, его повели в больницу и в пути он бросился на авось. Конвой стрелял, но не попал.
Алеша долго скрывался у родителей убитого им «орла» и все грозился что отомстит судье (судьей он называл прокурора) за то, что тот обвинял его в воровстве.
— Я не ракло, — кричал Алеша, — я покажу ему, какой я ракло!
Вечером, возвращаясь из суда, прокурор пересекал глухой переулок на окраине. Чей-то голос окликнул его по фамилии. Он поднял голову и неистово заорал. Ведро с помоями закрыло ему голову, резануло по глазам, замкнуло дыхание. Сбежалась толпа, прокурора отвезли в скорую помощь, бедняга ослеп на один глаз.
Алешу поймали и приговорили к высшей мере — к расстрелу. Но расстрелять его не удалось. На суде было много Алешиных знакомых. Посмотреть, как будут судить его, пришел не один бузотер.
Вяло слушал Алеша показания свидетелей, вяло слушал защитника и нового прокурора. Внимание его было сосредоточено на другом. За его спиной сидели его «орлы», они себе посмеиваются, им наплевать, они буду смотреть, как его уводят! От ярости Алеша скрежетал зубами. Все отдал бы за то, чтобы не доставить им такого удовольствия. Других врагов сейчас у него не было, кроме своих «орлов». В последнем слове он попытался их всех обкапать и закопать, но судья сказал, что это не относится к делу. Они будут смотреть, как его уводят!
Когда судья стал читать на счет расстрела и конфискации имущества, Алеша обернулся к публике, злобно посмотрел на «орлов» и высунул язык. Потом он выхватил у конвойного шашку и прежде, чем тот успел опомнится, перерезал себе живот.
**
Историю этой дикой жизни я услыхал на процессе в Харькове.