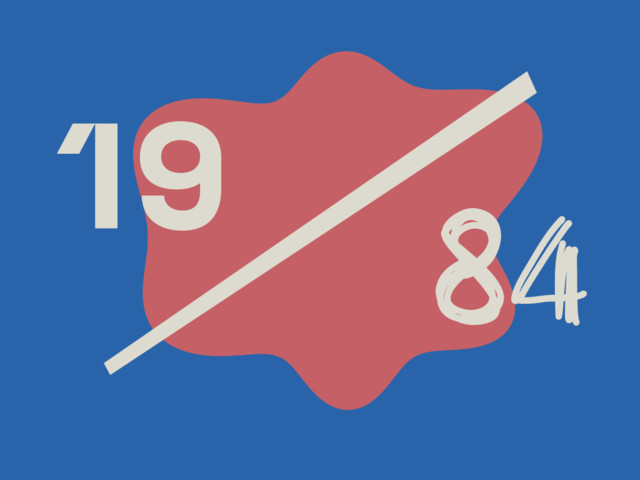«Дворы и дети». Вера Инбер
Каждая страна имеет свой образ правления, свой климат, свою систему телефонов, свою обувь и свои дворы. Я подразумеваю дворы, которые находятся при домах. Ясно, что в каждом таком дворе свои особенные дети...
Мне довелось наблюдать дворы в четырех странах. И хотя мои наблюдения, в полном смысле слова, не широки и даже просто узки, но все же я поделюсь ими.
В Константинополе двор был самым узким из всех когда-либо виденных мною. Это была скважина, выходящая на Босфор. Из груды мусора росла непомерно старая пальма. Ей, так же как и людям, хотелось на волю, и она тянулась к синей полосе воды и неба.
От этого у нее образовался горб, как у верблюда. Очень редко, приблизительно раз в месяц, она выпускала новорожденный лист. Он раскрывался постепенно, как веер. Но на третьем этаже узкого турецкого дома жил англичанин, весельчак и спортсмен. Он, как только показывался лист, устраивал стрельбу в цель. Он метал в старую пальму жестянками из-под консервов и очень ловко сбивал нераскрытый веер. На закате, когда Босфор был похож на золотой воздух и широкие броненосцы и узкие лодки роняли в него алые и зеленые огни, когда над Золотым Рогом залива вставал серебряный рог месяца и автомобили пели вдали, как птицы, тогда под верблюжьей пальмой рассаживались смуглые дети — турецкие, армянские, греческие и еще всякие.
Там был один мальчик, — я думаю, что это был поэт. На закате он рассказывал сказки, но так, что дети не двигались в течение часа и даже больше. Толстая гречанка с корзиной мусора, которой она собиралась угостить пальму, останавливалась и слушала. И рыбья голова в ее корзине, блестя единственным глазом, тоже слушала повествованье. Меня так мучило любопытство, что я однажды подловила на лестнице маленькую гречанку Амине и, соблазнив ее яблоком и двумя орехами, пыталась узнать, в чем дело. Амине не любила говорить по-французски. Кроме того, как это ни странно для гречанки десяти лет, вообще была молчалива. Она нехотя засунула орехи — один в карман, другой — в рот — и неопределенно ответила:
— Рассказывает. Про людей. Про автомобиль. Про духа одного. Про принцессу.
— А где он жил? — спросила я.
— В гараже, в одном отеле.
— Не может быть. Почему же это он?
— Да вы про кого спрашиваете? — выговорила Амине с презрением.
— Про духа этого.
— А! Дух жил в банке с маслинами. Меня тетя Евстафия зовет.
И Амине исчезла.
Я представила себе, какой винегрет из духов, маслин, автомобилей и принцесс образовался в этих детских головах, и больше не спрашивала.
***
В Берлине двор тоже был узок, но гладок и чист, как манжет. Посредине, вместо пальмы в железной оборочке, рос чрезвычайно корректный тополь. Он был очень опрятен, потому что каждый день его мыли из шланга. Со всех четырех сторон двор окружали окна шестиэтажного дома. И за блестящими стеклами с математической точностью чередовались спальни, приемные, ванные, уборные и кухни, потому что все квартиры были расположены одинаково. Детей там было немного, но все же они были и играли. Чаще всего выходили к тополю две девочки. Они всем семейством ходили друг к другу в гости и разговаривали.
— Доброго утра, фрау Гертруда, — говорила одна, придя к другой и усаживая кукол, — как вы поживаете? Как учатся дети?
— Благодарю вас, фрау Матильда, благодарю вас.
Мой Фриц ужасный шалун. Он за этот месяц потерял одну перчатку. Кушайте, пожалуйста, теперь такая дороговизна...
Серое берлинское небо было натянуто над домами.
Утром, в определенный час, в накрахмаленный дворик въезжала собака с молочной тележкой. И «фрау» Гертруда и «фрау» Матильда внимательно изучали толстые рабочие лапы и морду, удрученную тяжестью молока
— Какая большая собака, — с уважением говорила одна из «фрау». — Воображаю, сколько она съедает супа. Это при теперешней дороговизне!
— Да, но вы забываете, что она сама зарабатывает себе на жизнь...
***
В Париже двор был не двор, а квадратная коробочка, выстланная кафлями. Там ничего не росло, и только по вечерам туда выходили такие страшные крысы, что их боялись самые смелые коты. Там по утрам у каждой двери стояли: бутылка молока, длинный батон и газеты. Названье газеты менялось в зависимости от того, каких взглядов были жильцы. Но молоко и хлеб были неизменны... Дети сюда не приходили играть по той причине, что во всем доме не было ни одного ребенка.
Но однажды пронеслась поразительная весть: у консьержки (привратницы) родился мальчик. Через несколько дней мать вынесла на крысиный двор продолговатый сверток. И изо всех окон бездетные женщины долго и пристально рассматривали сморщенные ручки и кнопкообразный нос.
— Ребенок, — говорили они. — Мальчик. Вот он какой!
Потом высунулась и мужская голова с трубкой в зубах.
— Ребенок, — произнесла трубка. — Мальчик. Вот он какой!
***
В Одессе, на просторном дворе, с которого было видно ничем не омраченное море и где росли клены и акации, под моим окном четыре девочки играли в «Евгения Онегина».
Трудные военные и послевоенные годы, совершенно очевидно, как-то отразились в детских мозгах. И, соответственно этому, бессмертное творение Пушкина претерпело значительные изменения.
Так как все четверо были девочки, то у Онегина была рыженькая коса, — даже две, — а Ленский был стриженый, с челкой и бантиком.
— Почему у вас Онегин собирает коробочки? — спросила я у своей дочери, которая была Ленским.
Она замялась:
— Они с Татьяной живут в беседке. Но ведь они должны что-нибудь делать!
— Ну, так что же?
— Ну, так у них аптека...
Таковы были эти дети, рассеянные по всему свету.
Теперь, за последнее время, народились новые, совсем другие. Но об этих других надо писать другими словами, которые, быть может, еще и не найдены.
***
Вера Инбер. Публикуется по сборнику «Ловец комет», 1927 года.
Из собрания МИРА коллекция