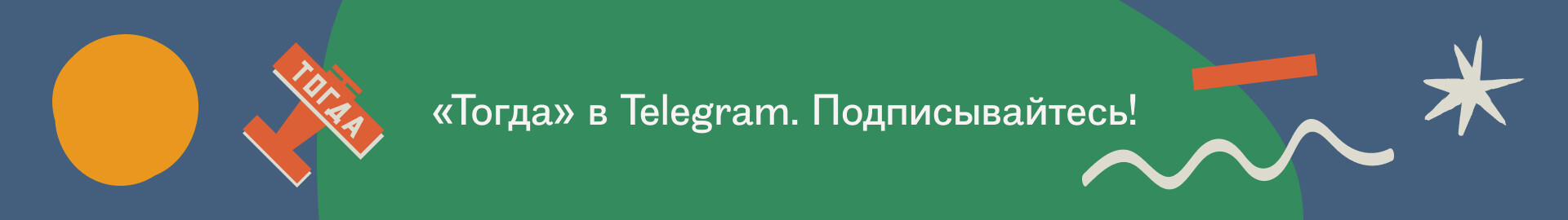«У порога в ВУЗ». Сергей Буданцев

В августе ночи длинны и холодны. Медик-третьекурсник Гречищев вел бездомных приятелей на Девичку пешком. Провожатый был широк в костях, казалось, что на его скелет пошли лошадиные части, а ступал он легко, как будто даже подтанцовывал. Всю дорогу он что-то брюзжал. Струпцов как в полусне поспевал сзади. Тяжелая усталость угнетала его. Бесконечные огни, суетливое скрежетание Арбата закрепляли скуку. Так иногда дурное пробуждение долго не рассеивается, а если рядом с вашей комнатой сосед затеет какую-нибудь шумную починку, — ударами молотка он может пригвоздить вас к мрачному настроению на весь день.
Где-то очень близко свистели паровозы, от их голосов окраинная ночь углублялась, густела. Темные громады домов дышали не вполне растраченным за вечер дневным жаром, прочная прохлада ночи текла серединой темной улицы, лекарственно пахло ремонтом, асфальтовыми котлами. Из этого безлюдья легко, казалось, выйти в близкое поле и по жнивью, по межам в полчаса добежать не только до родного захолустья, но и до счастливых радостей детства. Струпцов произнес в темноту.
— Мы ее завоюем!
— Кого? — спросил Гречищев.
— Жизнь, — ответил Елисей.
Они молча спешили дальше, свернули в переулок. Переулок гулкий, как коридор, повторял шарканье неразборчивым, шепелявым отзвуком.
Общежитие занимало флигель во дворе большого доходного дома. Был второй час ночи, но по комнатам кое-где еще не спали. В коридоре тускло желтела угольная лампочка. Елисей, шагая на цыпочках, раза два оступился о прогнившие половицы. Гречищев, гремя каблуками, провел приятелей на кухню, в клуб, как он называл. Там дышал душным паром кипятильник, вокруг него на лавке и табуретках сидели жильцы, человек семь. Худой черноволосый кавказец без рубахи, в засученных выше колен брюках, полоскал ноги в деревянной лохани. Какая-то кинокартина ему не понравилась, и он покрикивал с забавным акцентом:
— Буза! Совершенная ерунда! Он ее любит, она его не любит. А он бегает от каких-то заговорщиков и никак не может покончить с ней. Прямо клевета на буржуазный строй,
— Здравствуйте, голота! — приветствовал Гречищев сборище. — Кеворков, окончив туалет, устрой малых сих на нынешнюю ночь. Девчата, не глазейте. Ибо они пробудут кратковременно, только целятся держать испытания: им могут вставить перо хотя бы по социальному происхождению. Как, однако, идет баталия за новый быт? Завоевали тишину утром и в мертвый час?
Он пощипывал за плечи пухлую в пестрых веснушках девушку и, наклоняясь сзади, заглядывал в лицо. Та фыркала, отворачивалась.
— С таким ненормальным, как ты, завоюешь! Отсюда было слыхать, как ты топал еще по двору.
Елисей‚ засыпал в этой парной жаре даже стоя.
— Ну, они действительно клюют носом, — сказала веснушчатая девушка. — Пойдем провожу? К тебе в комнату, Кеворков? Там у вас две свободных койки.
Но Кеворков не слушал, спорил с Гречищевым, кому отвечать перед комендантом, ежели тот узнает. Замелькали папиросы и странные сокращения. Они казались Струпцову музыкой, которую надо выучить, потому что от нее, очевидно, зависит постель, сон, полный, черный, бархатный сон, до которого так трудно добраться сквозь строй шумных улиц и разговорчивых людей. Наконец Кеворков провел их в большую, со сбитой до деревянных переплетов штукатуркой, комнату, заставленную по стенам кроватями; посредине огромный кухонный стол со шкафами. На одной кровати кто-то похрапывал. Две других были покрыты смятыми одеялами: заняты. И две рядом, у окна, утлые, с выбитыми прутьями, с вылезшими досками, на которых валялись плоские матрасики, предназначались для гостей. Струпцов повалился на постель и заснул, еле успев закрыть глаза.
Утром его разбудил яркий свет и страшный грохот, сотрясший весь дом. Где-то под боком, за стеной кричали, грохали мебелью, что-то трещало, и все покрывали глухие раскаты смеха. Струпцов поднялся, поглядел кругом. За подоконником курчавился зеленый кустик. Нещадное солнце бушевало в комнате. Соседи поднимались. Очень волосатый и бородатый великан, заросший как Исав, проделывал мюллеровскую гимнастику.
— Вот жеребцы, — сказал кто-то в углу. Струпцов по акценту узнал Кеворкова. —
Доламывают последние табуретки! Что это за манера играть в чехарду с утра.
Гимнаст шумно вздохнул и пощупал брюшной пресс.
— Бездельники!.. С начала учебного года займусь порядком.
Третий, тонкогубый блондин, лежавший под простыней неподвижно, как покойник, отозвался:
— Пока ты, Ломинадзе, соберешься, они переломают и столы.
Дверь резко, с ветром распахнулась, и обломки табуретки, как останки изувеченного животного, упали с сухим стуком на середину комнаты. Босые ноги зашлепали по коридору, убегая. Кеворков выругался, вскочил с кровати и, закрываясь не надетыми трусиками, бросился из комнаты.
Струпцов лежал — голова на затекшей руке, бок онемел, безвыходная досада невыспавшегося человека терзала его. Шафир валялся навзничь, с широко открытым и неестественно освещенным ртом, муха ползала по губам. Шум затих. Гимнаст окончил упражнения и вышел. Дверь не успела закрыться, — вбежал Кеворков, растрепанный, в мелком поту, острый запах пота окружал его как облако.
— Ну, ребята, смывайтесь! Скандал на все общежитие! Комендант идет, рычит из-за табуреток, а кто-то ляпнул про вас.
Шафира выводили чуть не под руки: не мог проснуться. Они очутились в тихом, засаженном липками, приветливом переулке, выброшенные из грязной пасти ворот.
— Чтобы я стал жить в этой клоаке, голодать, нищенствовать? Нет, пусть наука подождет! — Яша говорил со сна хрипло и брюзгливо и с таким отсутствующим видом, словно его умозаключения вырастали из каких-то тяжелых и не запомнившихся сновидений. — Нет ни на какие экзамены я не способен, нет у меня для них пафоса. Я хочу тихого устройства, и тогда из своей комнаты, сытый, уверенный, наполовину, а может быть и больше завоевав жизнь, я начну думать и об университете. Вы думаете, я отступаю потому, что испугался? — неуверенно спроси» он и сам ответил себе утешительно: — Нет, я покрепче многих и многих!
— А мне придется идти. Там посмотрим. Только, вы правы: жить в общежитии, благодарю покорно. И вообще, надо смотреть правде в глаза: я могу работать и жить только в одиночку. Это индивидуализм? Да, я хочу сделать много. И сделаю. Но прежде надо создать условия, которые будут способствовать. Правда? Переделываться?.. Но, на это уйдет вся молодость. А надо дело. делать. Вымету из своей жизни все лишнее...
— Может быть и чувства и мысли? — спросил Яша, улыбаясь ехидно.
— Да, если мешают, — неосмотрительно ответил Елисей.
Но Шафир хоть и заметил, не подхватил противоречия приятеля, мнения которого он разделял в значительной мере. После раздумья он сказал:
— Что ж, будем выметать, что лишнее. Как все же русские интеллигентные юноши: любят начинать жизнь заново, как будто до них никто не существовал, им огонь необходимо изобрести и первое колесо! Однако, пока... Вы в университет? А я на службишку. Хлебников делил людей на изобретателей и приобретателей. Сейчас нужны приобретатели!
И мудрый Яша побежал к трамваю.
***
Университет! Елисей давным-давно представил себе все разнообразие переживаний, которое дадут ему экзамены, поступление, хлопоты о стипендии, профессора, лекции, товарищи, общежитие, представил волнение от удачных ответов, позор ошибок и заминок. Воображение, разыгравшись, рисовало дальнейшее. Он будет великим ученым, — как хорошо строились ряды ученых волюмов по стенам в кабинете, стопы бумаги на столе, которые он испишет научными доказательствами.
Разумеется, в легком мире мечты некуда было поместить желтые стены, классические колонны, ограду, двор, на котором среди цветников суетятся крикливые, озабоченные девчата и веселые, раздраженные парни. И уж, конечно, он не предвидел досады, которую будут возбуждать глупые вопросы о том, как пройти в канцелярию и как попасть в первую очередь экзаменующихся. В воображении университет был растянутой во времени цепью удач и поражений, больше всего побед, конечно; университет был личной судьбой Елисея Струпцова.
В действительности, у настоящего университета (при чем первые дни Елисей не знал о существовании нового здания!) оказалась огромная кубатура, вес, запах, его омывали уличные шумы. Время в первые дни катилось медленно, оно ростило и старило, нагнетало опыт. Канцеляристы грубили, путали бумаги, фамилии, сбивались с ног. Поступавшие толкались, наступали на ноги, бессмысленно много кричали, волновались, перед глазами стояла стена спин, за спинами Елисей не мог разглядеть будущее. Утешала только горькая, пыльная, никотинная прохлада темного вестибюля, чугунной лестницы древним запахом, которым дышали с дней Ломоносова вот эти, вечные как небо, швейцары.
Здание неустанно раздавалось, чудовищная, непостижимая, безграничная емкость поразила Струпцова, который вообразил, что все факультетские помещения, аудитории, кабинеты, расположились где-то на задах канцелярии. Какая-то студентка в очереди рассказывала другой об анатомическом музее и психиатрической клинике.
Струпцов начал бояться этой поместительности, спросил:
— А где же здесь больница?
Сзади кто-то захохотал, толкнул Елисея в бок.
— Будьте любезны не толкаться! — приготовил Елисей, обернулся и проглотил.
В упор глядели хитрые серые глазки на загорелом деревенском лице.
— Виноват, — и он насмешливо поклонился. Я ведь и сам так думал и удивлялся, пока не рассказали. Клиника на Девичке... На Девичьем поле...
Так они познакомились. Парня звали Мишкой Макушиным, он был комсомольцем; «потомственный пролетарий третьего поколения», — как он себя гордо назвал.
— Я на медфак. В райкоме ребята ладят, чтобы шел во втуз, —я ведь только в позапрошлом году фабзавуч окончил. Они — свое, я — свое. Будет буза: грозятся мобилизовать в тысячу... «Нам нужен свой технический комсостав»...
Макушин рассказывал, мало заботясь о слушателе, слушателю должно быть интересно то, что он ему говорит. Это происходило от того, что он сам горячо принимал то, что сообщил.
— Почему же на медфак?
— Почему на медфак? — протянул Макушин. — А тебе не интересно узнать, что у тебя внутри? Да я не про кишки, кишки и печенка и так известны, мне самая глубина нужна. Ну ты понимаешь?
— Не понимаю.
— Прикидываешься! А может и я объяснить не умею. Вот потому и иду на медицинский, что ты меня не понимаешь. Я знаю для чего, а растолковать не могу. А кончу — растолкую, и всем будет понятно: Мишка Макушин прав и смотрит глубоко!
Про гайки да про сопротивление материалов я и сейчас тебе хоть два часа, хоть два дня долдонить буду, все разжую.
***

Начались для Елисея московские концы. Он ходил в канцелярию на Моховую, на Павелецкий вокзал в камеру хранения за книгами и вещами, к Мясницким воротам на почтамт, и каждый день особо — к заставам, в пригороды в поисках дешевой комнаты. Писал заявления, заполнял анкеты, советовался, советовал, читал объявления в витринах, на стенах, слушал призывы и предупреждения.
Он привык к гулкому университетскому вестибюлю с колоннадой, с чугунными полами, к широким лестницам и старинным дверям с табличками. Наука представала в виде учебных планов и переходных требований, восточно-финский цикл на этнографическом отделении, избранный им, однако содержал множество дисциплин, которые юноша никогда не собирался изучать.
И, как все в жизни, достижение знания осложнено и обставлено препятствиями, неожиданностями. При широких интересах Струпцов хотел специализации. Оказалось, что и университет уделяет большую часть времени предметам общеобразовательным и вокруг специальности. Впрочем, юноша больше благоговел перед программами, чем критиковал их. Он отдыхал на площадке канцелярии этнофака, потому что там было тихо. Студенты и экзаменующиеся редко сюда заглядывали, изредка проходили какие-то мужи науки в старомодных чесучевых пиджаках, при зонтиках.
Вся эта пора запомнилась впоследствии непрерывными очередями и списками. Их было много, этих списков, очень много:
Елисею не повезло: он попал во вторую очередь. А списки и без того вывешивались с опозданием на пять, на семь дней, сотни и тысячи людей, среди которых было три четверти голодных и бездомных, как Струпцов, толпились в коридорах, на лестницах, во дворе, на тротуарах. Струпцов ни с кем не знакомился, все это были случайные люди, эгоистически замкнутые в своих волнениях, и вообще навязанные случаем сближения быстро утомляли его. Раздражали вопросы у дверей: «Сдал? Ну, что спрашивали?» — как не игрока раздражают и злят в игорном зале не столько самозабвенные, азартные игроки, сколько тихие, расчетливые маньяки с таблицами бесплодных комбинаций.
Он поголадывал. После дежурств в канцелярии, бесконечных ожиданий у дверей экзаменационных комнат спешил в столовку и опять пробивался сквозь очереди к тарелке первого и неограниченному количеству хлеба. Наедался до тяжести в желудке, до мути в голове, до стона о покое и сне. А тут какая-нибудь соседка, не успевшая смыть с лица подтеков пота, ужасалась строгостям обществоведа, которые она уже миновала, и спрашивала о будущем.
— А как устная алгебра? Не знаете, товарищ?
Экзамены проходили неважно. Елисей, разумеется, думал, что к нему придираются.
Раньше думалось, что все душевные силы поглотит этот бег с препятствиями, как было в школе, когда сданный зачет наполнял чистой, беспримесной радостью и гордостью на несколько дней. Теперь он не испытывал упоения победами, а ждал и готовился к неприятностям. Конкурс включал в себя столько невесомых и, вместе с тем, грозных требований, что учесть заранее последствия представлялось невозможным. Происхождение свое Струпцов считал не блестящим, — мещанин при всех режимах плохо. Не было и трудового стажа.
Все это отодвигало вуз, Струпцов не ощущал своих маленьких успехов и поражений. Зато в каждом встречном виделся соперник: вот плетется сельский учитель лет тридцати, — ему не откажут, вот сын известного ученого, вот рабфаковец, — им тоже.
Бестелесное книжное представление о Москве, лелеянное много лет: — на фоне голубого тумана соединился моссельпромовский дом со съедобно-пряничными башенками Кремля, — о Москве, дарившей каждому своему жителю все, что ни пожелает (желать же можно такие чудеса, как Третьяковскую галерею, Художественный театр, лицезрение Маяковского, университетскую библиотеку) — представление об этой Москве, едва он сошел на пыльную площадь перед Павелецким вокзалом, рухнуло, рассеялось: по обыкновенной губернской площади ползли лакированные трамваи. И только. Даже самая память о бреде затуманивалась бесследно в неблагодарном, неемком мозгу. А ведь жил же он им, как и сейчас живут тысячи рвущихся в столицу юношей!
Раскраивая пространство, пролегли улицы: Тверская, Моховая, Герцена, Тверской бульвар, почему-то Леонтьевский переулок.
Он-то и оказался ключом, с помощью которого стали укладываться новые впечатления: переулок, тогда ремонтировавшийся, напомнил гнилую рыбу. Вспомнилось, что Толстой назвал магазин Елисеева храмом колбасе. Мясницкая вызывала ближайшую ассоциацию железнодорожного депо, почтамт же Струпцов окрестил храмом домашних каракуль. Потому, что здесь получались письма до востребования, а мать писала малограмотно и до крайности неразборчиво.
Ее письма были полны пожеланиями успеха и страхами, в сущности, одним только страхом, чтобы сын не заболел. Москва давно придумала ему пытку посерьезнее: одновременно и телесную, и нравственную.
Захворать... Какое удовольствие, должно быть, растянуться на постели, пусть с температурой, головной болью, — велика важность! Вытянуть ноги, содрать ставшее тягостным, как слой присохшей тины, платье, глазеть в потолок и безмятежно ждать дремоты! Бульварная скамейка, жесткая, приспособленная мучить бесприютного бедняка гнусной щелью как раз в том месте, где ищут мягкости и покоя изнывшие бедра и бока, скамейка, на которой нельзя путем задремать, потому что за ночь несколько раз сгоняют и издеваются, — вот настоящая московская казнь!
Он утратил понятие о глубоком сне и придавал ему теперь, когда сон стал недоступным, совершенно чудодейственное значение. Если бы удавалось спать по ночам, тогда, конечно, его приняли бы в университет, невзирая на мелкобуржуазное происхождение.
Восторг и голод томили Елисея. Странная гордость опьяняла его, давала силы и веселье. Он сделался предупредителен и вежлив с товарищами по экзаменам, завязал много новых знакомств, даже восхитил Макушина:
— Я, брат, думал, что ты всегда такой— как утюг. А ты, смотри-ка, на задние лапы встал и заговорил человечьим голосом! Ну, строчи дальше в том же духе. Крепкие люди во как нужны! Нужны. Только они должны знать, что делать. А ты знаешь?
Елисей не отвечал.
***
Двадцать восьмого числа Струпцов сдал физику, последний экзамен. И вверился комиссиям, которые где-то собирались и от которых исходили списки. Силы его иссякали. Вид бульварной скамейки вызывал спазму удушья, он понимал, почему хулиганы ломают их. Сутки потеряли двойную расцветку. Время тянулось ровно, непрерывно. От света, разбитого по витринам, стеклам авто и трамваев, от пыли, поднятой постоянными в тот месяц ветрами, болели глаза, от шума, голода, бессонницы — голова.
«Если поступаю, — писал он матери, — общежитие обеспечено. Сначала меня испугало многолюдство, шум, теперь вижу, что при нашей бедности можно жить только кучей. Трудно будет, приспособлюсь».
Поступление в Университет открывало целый ряд дополнительных благ и удобств: жилище, заработок через бюро труда, надежда на стипендию. Именно поэтому, мечтая о последующем, желать слишком сильно основного, то-есть поступления, казалось кощунственным перед судьбой (буде такая бодрствует). Так алчный владелец лотерейных билетов, или яростный картежник отгоняет мысль о выигрыше, дабы не раздражать темные силы случая.
Елисея в университет не приняли, В день, когда вывешивали списки, он не спешил, сам себя пытая медлительностью: теперь, когда все решилось и список висит на доске, бесполезно пороть горячку. Пытка эта имела смысл; она подготовляла к краху и подчеркивала удачу. В вестибюле, в уголку плакала девушка в зеленой майке и в сандалиях. Лестница, площадка перед дверями, коридоры, душный воздух здания — все гремело суетой. Пробился к спискам. В них не было его фамилии. Прошел к члену приемочной комиссии, удостоверился: не принят. И сам удивился бедности чувств, которые вызвал в нем этот удар.
Предвидел он‚ — да хотелось думать, что и другие тоже, — страшную бурю, а выходя от члена комиссии, тихонько и подло кашлянул — вот и все. А надо бы подойти к окну, разбить стекло, закричать. Так поступил бы в детстве. Так поступал, когда считал себя оскорбленным. А тут бессилие, и нечего сказать. Вспомнил детские несчастья, ответные взрывы на них, прикинул на зрелость — должно бы получиться что-то ужасное. А на самом деле: кашалянул, без звука приоткрыл дверь, пропуская очередного посетителя. Вышел на улицу. Вновь гулкая громада университета сделалась далекой, чуждой, как близкий ряд домов по Моховой, Никитской, любой другой улице.
— Куда итти? — спросил себя Елисей,
И отправился на службу к Шафиру. Яшу он встретил у выхода из литературного издательства, и по тому, как приятель неестественно весело улыбнулся, Яша понял все.
— Не приняли?
Они молча пошли по улице, шли так с четверть часа. Заговорил первый Шафир:
— Москва похожа на отвесную скалу, по которой надо взбираться до первой удобной площадки: должностишки, приема в профсоюз, пособия с биржи труда... Лезешь, руки в крови... Что это так аммиаком запахло?
— Пивная, не видите! сказал Елисей.
— Зашли?
***

Cтрупцов очнулся.
Раньше, чем открыл глаза, почувствовал страшную боль в темени, голову как будто раскраивали ножом, и весь он как будто плавал в тяжелых волнах отравы. И первая мысль хлынула из темной глубины: «Зачем я не умер?» Хлынула, как порыв к забвению, — не тому полузабвению, в которое был только что погружен, а к полному и вечному, чтобы залить, стереть весь позор, заставивший его замычать раньше, чем он открыл глаза. Он открыл их.
Лежал на узкой лавке, вроде тех, которые ставят в зрительных залах бедных клубов.
Перед глазами стена уходила в свод. Зарешеченное забрызганное грязью окно. Полуподвал. Откуда-то тянуло холодом, и тогда, освеженное струей сквозняка, обоняние улавливало тяжелый дух сырости, уборной и ту особую смесь запаха кожи, дегтя, лошадиного пота, которая свойственна казармам. И по мере того, как зрение знакомилось с обстановкой, обоняние с запахами, слух улавливал странную возню за стеной сзади, — и из парализованной памяти проступали обрывки картин, тех, которые его мучили и во сне.
Поднялся. Глаза к двери. В двери — глазок, в глазке — переносица, прямой козырек, красный околыш. Все определилось: милиция. Отвращение, невероятная физическая тоска об утраченной чистоте, так недавно неотъемлемой от него и его поступков, все это, усиленное тошнотой, дрожью в теле, гусиной кожей, сразило его, бросило навзничь на лавку. Крикнул:
— Кто там? Где я?
И рядом за стеной, словно он пробудил палату умалишенных, забегали босые ноги, кто-то громко и часто забормотал: «Проклинаю, проклинаю, истязатели владыки». Струпцов в ужасе скорчился. Повернулся: за переборкой из грубых и грязных досок ярко горело электричество; что-то мелькало. Дальше сил не было определять и распознавать окружающее. Зажмурился и погрузился в свою насышенную видениями тоску. За стеной только слышалась беготня. Память нещадно обличала, и из обрывков возникали связные картины.
Из пивной он пошел на Моховую к университету. Темной и нелюдной улицей неслись трамваи, сея голубые искры. Струпцов искал в себе злобы, той безудержной детской злобы, о которой скучал днем, у члена приемочной комиссии. Окна как-то глухо отражали рассеянный свет фонарей, во дворе никого не было, даже букинист убрались давно от ограды, где продавали, истрепанные учебники и истлевшие романы. Ночь и дома были слишком просторны, для его вопля, он предпочел промолчать, пьяные ноги понесли дальше.
Долго блуждал в строениях и заборах какой-то фабрики, оттуда выгоняли, выбирался снова к реке, штабелям досок, попадал снова в тупики из заборов. Сторожа кричали, он требовал, чтобы указали переулок. «Какой?» —с прашивал старик в тулупе. «Забыл». Старик беззлобно ругался и толкал к реке. Осталось название фабрики: «Красный Октябрь». Затем возникли рамы стеклянных дверей, они дрожали и дребезжали под кулаками, наполняя его ожесточением. В темном вестибюле вспыхнул свет, обозначились колонны и чугунные ступени широкой лестницы. Среди колонн бегали люди в нижнем белье. «Кто там, кого нужно?» спрашивали его женские голоса.
«Позвать мне Макушина!» Он даже вспомнил надсаду в горле, которую вызвал этот слог «куш».
Весь стыд сосредоточился именно на воспоминании этого крика. Стыд достиг силы ожога, сразу повысившего и обострившего отраву похмелья.
— Нет, не надо вспоминать, чорт с ним... Лучше бы умереть.
Должно быть, он сказах это вслух: из соседней камеры отозвался долгий стон и пошло: «Проклинаю, варвары, истязатели». Этот застеночный бред поднял Струпцова, оказывается, где-то нашлась неизрасходованная энергия. Подошел, посмотрел в щелку. По квадратной комнате, освещенной яркой лампочкой, носился человек в подштанниках (одежда и белье валялись в углу), делая томительные круги. В рыжей бороде, скомканной клоками, блестела слюна. На бледном лице чернели огромные безумные глаза. Он заламывал руки над всклоченной головой. «Проклятье, проклятье!» хрипел он. Струпцов заметил, как те же судороги начинают повторяться в нем, еще где-то в глубине нервов и крик вскипает на губах, такой же бессмысленный, как у соседа. «Сохрани, рассудок сохрани», — приговаривал он. И подбежал к двери, застучал, закричал:
— Пойдите сюда!
Ленивые сапоги затопали в невидимой трубе коридора, милиционер, в тяжёлой шинели, спросил скучливо:
— Ну что, не проспался еще. Что тебе? Студент тоже. Свои же товарищи отправляют в отделение, а ты кусаться.
— Кто кусался?
В памяти теперь всплыло, как безобразно он кричал и бился на извозчике, когда его везли, а вот оказывается еще кусался.
Вообще, сохранялись только те моменты, когда он бился, боролся, затрачивал большие усилия, освобождавшие мозг на какую-то еле заметную долю ясности от тумана и мглы.
— Я кусался, — переспросил он сварливо. — Ну, я и буду отвечать. А кто мой сосед, почему кричит, кто его истязал? — Струпцов уже не управлял голосом. — Кто? Смотрите. Я свидетель.
— А, свидетельствуй! — Милиционер лениво махнул рукой. — Вроде тебя алкоголик, только что приняли, три ларька у Арбатских ворот камнем проломил. Из нашего района скандалист. Теперь симулирует. Мы его давно знаем. Высылки ждет.
Сосед услышал их и закатился долгим бормотаньем.
— Скоро меня отпустят? — спросил Струпцов, успокаиваясь.
— Теперь скоро. Начальник придет, протокол составит. Отпустим, не засидишься.
Молод, брат, ты так пить. Милиционер ушел. Струпцов пошарил часы. Карманы были пусты, ни платка, ни записной книжки с документами.
«Вот я без роду, без имени, без места в жизни. Однако живу, могу закричать, как сосед, никто не пожалеет, не нужен?..»
Сидел на скамейке, зябнул, кровь шумела в ушах, тупой нож раскраивал голову.
Рядом не умолкало монотонное: «Проклинаю... проклинаю». Босые ноги шлепали.
Шаги остановились, сосед осторожно поскреб переборку, позвал: «Тсс! Тес!» Струпцов подошел к щелке.
Закурить не найдется, товарищ?
— Нету, я не курю,
— Ну, хрен с тобой.
И опять начал бегать по камере. У этого странного человека, оказывается, есть желания, он их высказывает хоть и сиплым, но разумным голосом. Тупое томление, которое овладело Струпповым, мнилось ему ничем не наполненным, какой-то действительной, предсмертной слабостью.
Хотелось, например, пить, но едва он вспомнил о вкусе воды, как почувствовал прилив тошноты, сразу парализовавший жажду.
Утро, вероятно, разгоралось. Окно из бурого стало серым, на нем замелькали тени, ноги проходящих по тротуару. Где-то прокричал автомобиль, грузовик раза два сотряс землю. «Куда же я в эту жизнь, — спросил себя Струппов — Куда я гожусь?»
Вытянул руку на уровень плеча, пальцы дрожали. Яд превратил в судороги, в дрожь драгоценные, искусные навыки держать и водить пером, тренькать на гитаре «Хаз-Булат», сообщать движеньями тончайшие, оттенки труднейшие словам, и еще многое множество знаний, с детства закрепившихся в суставах и сухожилиях. При виде этих обесчещенных ослабленных пальцев у Струпцова родилась такая жалость к себе, что слезы закапали, и он, скрывая их, встал лицом к стене. «Пьяными слезами плачешь! — мучил он себя. —Грош им цена, Елисей, и тебе столько же!»
Он чувствовал потерю, ушерб и удивлялся бедности и бесцветности угрызений, которыми терзала его совесть. Для его самолюбивого рассудка ощущение ущербности казалось непоправимым и самым страшным из того, что принесло это пробуждение. И выхода не было из самоказни. Как же он обрадовался, когда загремела дверь и другой милиционер, курносый и суровый, позвал:
— Выходите, гражданин. Там за вами пришли.
— За мной? Кто?
— Брат, что ли. За протокол обижается.
Струпцов даже не удивился. В канцелярии толпились милицейские. Однообразная форма резко подчеркивала различность лиц, смеющихся, суровых, молодых, старых, гладких, морщинистых. Вблизи их было так же странно видеть, как крышу дома, как вершину дерева. Они еще волновались тревогами дежурства. Человек в гимнастерке за столом что-то писал. Струпцов направился к столу.
— Елисей! — раздался голос.
Это был Макушин. Волосы на нем торчали дыбом, лицо пылало и вообще он имел вид возбужденный, как будто после солнечной ванны. Он потянул Елисея за рукав, посадил рядом с собой на лавку.
— Сколько набузил за ночь! Сам я тебя сюда отправил, сбегал к телефону, вызвал милицию. Эх, ты!
— Я глаз на тебя поднять не могу — сказал Елисей.
— Гражданин, получите вещи, распишитесь в протоколе. Прочитайте.
Елисей едва пробежал фиолетовый текст, неразборчиво повествовавший о его безобразиях.
— Где проживаете, гражданин? Адрес как, не слышите, что ли?
— Нет у меня адреса.
Но тут вмешался Макушин:
— Есть у него адрес. Малая Ордынка. Он у моих родителей живет, вот и волынит, стесняется. Туда и повестку пришлите. Только уж очень-то не штрафуйте, с деньгами у него не жирно. И так — наука!
Наконец вышли. Золотое утро сияло в переулке. Перед глазами пошли радужные круги. Струпцов сел на тумбу, обхватил голову руками, плечи его плясали.
— Макушин! До чего же низок я! Кичился, думал, что у мена вся жизнь по струнке пойдет, и вот — прямо лицом, прямо грудью шлепнулся в навоз, в грязь!
Макушин стоял перед ним, хмуро посматривал, ворчал:
— Ну, ну... раскис... С горя выпил! Зря я, пожалуй, мильтона крикнул. Ну да ничего, наука. Может быть поймешь, куда тебе расти надо... Интеллигент безродный! Ну, поедем. Мать уж, наверное, пироги печет. Я брата попрошу, он у меня мастер на заводе, найдем, может быть, какую-нибудь работенку. В котле тебя варить надо! Все выварить, чтобы один скелет остался. Поработаешь, новым мясом обрастешь, рабочим. Ну, потопали!
***
Сергей Буданцев. Рисунки: Владимир Козлинский. Публикуется по журналу «30 дней», № 9 за 1929 год.
Из собрания МИРА коллекция