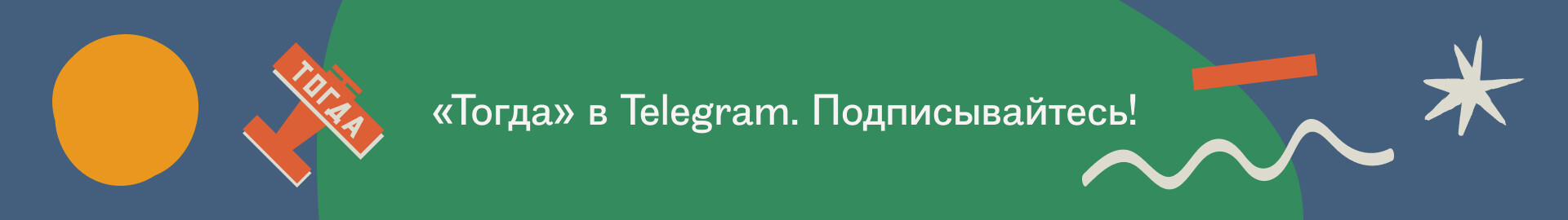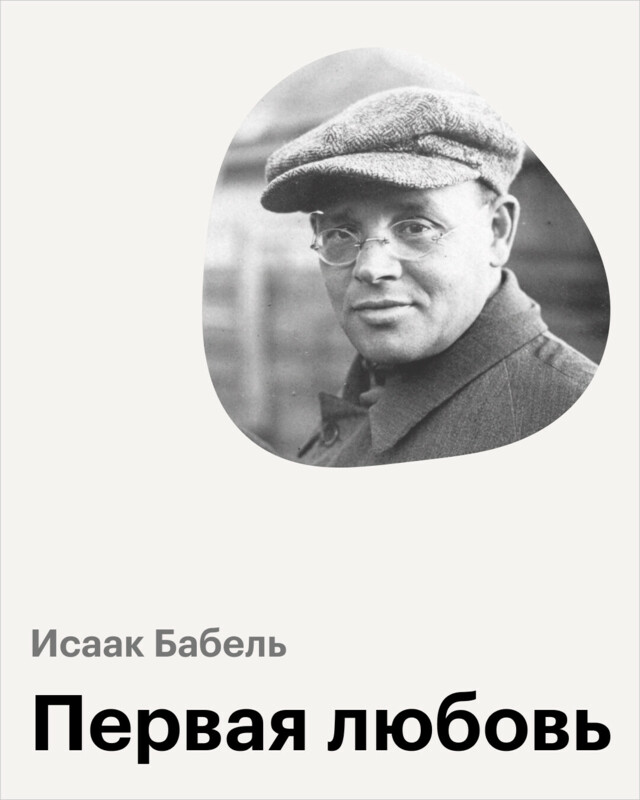«Майя». Вера Инбер
1.
На южном берегу, у самого Черного моря, лежит город. Он мал. В нем есть старая генуэзская крепость, состоящая из обломков, полыни и ящериц. В нем есть кофейня, где столетняя глициния, ползущая по навесу, роняет в кофе лепестки. Есть базар, заваленный летом камбалой и персиками. У молодой кукурузы на базаре седые очаровательные волосы и мелкие зубки: все остальное покрыто зеленым капором. В городе есть кино, два-три учреждения, но в конце каждой улицы есть море — и всё пустяки по сравнению с ним. На песке растянуты сети, и то на спине, то на брюхе отдыхают лодки. Порой волна взбегает на песок и, шипя, исчезает.
Ночью город, облитый луной, похож на спящую рыбу.
Черепица его крыш блестит, как чешуя, узким хвостом уходят вдаль виноградники, и ветер играет ими.
А на берегу, там, где полагается быть рыбьей голове, блестит одинокий глаз — лампа смотрителя музея.
Ибо в городе есть музей.
На закате жены рыбаков судачат. Сами они черны от солнца, передники их ярко-красны, и все вместе напоминает издали корку черного хлеба с ломтиком помидора.
Поджидая мужей и готовя ужин, женщины толкуют между прочим и о том, что старый Ставраки, нынешний смотритель музея, а раньше просто богатый человек, что этот самый Ставраки — внук контрабандиста. Несомненно, что Николай, его дед, занимался контрабандой и промышлял беспошлинным табаком. Правда, кроме того, ему повезло: привалило наследство, когда его компаньон, русский купец, утонул, не справившись с парусом... Но один бог знает, как в действительности выглядел этот парус: не было ли у него черной бороды и широких штанов и не звался ли он Николаем Ставраки?
Наверно ничего не известно, но с той поры пришло к Николаю Ставраки богатство. Он выстроил себе прекрасный, просторный дом и разложил по столам и диванам диковинки, вывезенные из чужих земель. Среди них была персидская шаль, белая с розовым, как розы в снегу.
Сын Николая, Адриан, уже не занимался ничем предосудительным. Он жил в большом городе, в Одессе.
Там у него была лавка, где продавались канарейки и кораллы. На этом он страшно разбогател. Что касается его сына, тоже Адриана, то он даже не взглянул на лавку. Он продал ее, завел торговлю фруктами, но сам торговать не стал, а нанял управляющего. Он поехал за границу, долго жил там, но не женился. Потом он вернулся в родной город, перестроил дедовский дом и поселился в нем навсегда. Он не только перестроил его, но и украсил неслыханно прекрасно... Персидская шаль деда уже не страдала от одиночества: у нее была целая коллекция подруг, таких же шалей, и таких же персидских.
Кроме них, были картины, статуи, старинная мебель, кружева и камни, — одним словом, все, что может себе позволить богатый человек.
Так жил молодой Ставраки, пока тоже не превратился в старика.
Но тут произошла революция.
Был издан приказ, что красивые вещи принадлежат всем, но что брать их себе домой нельзя. Они должны находиться в отдельном доме, который называется музеем, и по воскресеньям и даже по будням, кроме понедельника, каждый имеет право смотреть на них, не трогая руками. Таким образом, дом Адриана Ставраки превратился в музей, а его бывший хозяин — в смотрителя музея. Ему отвели угловую комнату, где раньше жила большая белая статуя, изображающая голую девушку с зеркалом.
На парадной лестнице посадили дочку старой лавочницы Диамандо, и она выдавала желающим билетики, хотя вход был бесплатный. И по воскресеньям и по будням, кроме понедельников, каждый мог убедиться, что старый Ставраки хорошо охраняет народное добро, что ни одна из персидских шалей не проедена молью, что кинжалы не потемнели и что статуя голой девушки, очевидно вымытая мочалкой, так и сверкает.
2.
День воскресный, и народу в музее особенно много.
Дочь Диамандо разрывается на части, выдавая входные билеты и отбирая у посетителей зонтики, палки и даже трубки. Последнее правило особенно строго соблюдается, после того как рыбак Христо, остановившись перед картиной итальянского художника, воскликнул:
— Паршивая лодка! Будь я проклят, если в ней можно выгрести против ветра у мыса! Корма низкая.
И, говоря это, он так стукнул трубкой по старому холсту, что на нежной поверхности моря образовалась дырка, после чего комсомолец, молодой русский парень Павел Зуев, с укором сказал ему:
— Мы, товарищ Христо, считали вас сознательным, а вы проявили себя наоборот. Разве мыслимо к предметам искусства прикасаться даже пальцем? Ни в коем случае. — Он додумал, почесал затылок и прибавил задумчиво:
— Но корма действительно никуда.
И теперь, принимая во внимание опыт прошлых дней, трубки неукоснительно отбираются у входа. Адриан Адрианович, обеспокоенный бурным наплывом любителей прекрасного, вопреки своему обыкновению, выходит в большую квадратную комнату с окнами на море, бывшую столовую, а теперь лучшую сокровищницу музея, где по стенам бегут помпейские фрески, а с потолка свешивается бронзовый фонарь времен Возрождения.
Грузная фигура Адриана Адриановича, его чесучовый пиджак, его полуседая борода и хмурый взгляд из-под роговых очков — все это производит на посетителей смутное впечатление. Ткачиха Дорочка, приехавшая с экскурсией, загорелая, стремительная, блестящая спортсменка, побившая все рекорды на всесоюзных состязания плавания, стоя перед холстом, где изображена женщина с младенцем, в негнущемся платье, в косах, перевитых жемчугом, объясняет товаркам:
— Посмотрите только на ее платье... Какая адская работа! Купаться они тоже не любили. Конечно, они вели паразитический образ жизни. Но...
Она вглядывается в лицо, ловит там тень улыбки и добавляет почти шепотом:
— Но все же она очень красива.
И рыбак Христо, на этот раз без трубки, подтверждает:
— Красивая женщина и, главное, добрая. Видно по тому, как она держит ребенка.
В это время мимо проходит Адриан Адрианович, и Дорочка умолкает.
У другой стены, перед слепком микеланджеловского Давида, стоит приезжий пионер. Он стоит, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Шляпа сдвинута на затылок, красный галстук завязан на груди.
Наконец он щелкает пальцами и восклицает:
— Способный старик!
— Кто? — спрашивает Адриан Адрианович, не веря своим ушам.
Но пионера не так легко смутить, как ткачиху Дорочку.
— Конечно, Микеланджело, — отвечает он. — Ведь это же какие бицепсы у его парнишки! А ноги! Да знаете ли вы, что если он пустится бежать, то он всех побьет на какой угодно дистанции, даже если даст форы.
3.
Воскресный день окончен. Последний, самый настойчивый посетитель, приходящий в музей ежевечерне для того, чтобы не отрываясь глядеть на черноглазую билетершу, тоже ушел. Адриан Адрианович, сидя в своей угловой комнате, отдыхает. В широко раскрытое окно вливаются тишина, море и луна. Корешки книг в стеклянном шкафу отливают золотом. На письменном столе в венецианском бокале распускается роза.
Одноглазый Афанасий, сторож музея, он же кухарка Адриана Адриановича, он же прачка и он же горничная, приносит на подносике ужин: каймак в плоском глиняном сосуде, лепешку, масло и сотовый мед на виноградном листе. Прекрасный ужин, от которого не отказался бы и древний грек. Кроме того, Афанасий приносит несколько писем — проштемпелеванный улов, который нынче выплеснуло море жизни на письменный стол старого Адриана Ставраки.
Адриан Адрианович, прикрутив керосиновую лампу («они» все собираются электрифицировать город, но никак не могут), не спеша ест и просматривает корреспонденцию.
Луна и лампа освещают его волосы и широкие плечи.
Письма мало интересны. Два-три от его коллег, таких же музейных людей. Один предлагает древнюю новгородскую икону (у него их несколько) в обмен на траурную античную урну, не моложе четвертого века до рождества Христова. Другой спрашивает, как предохранить пергаментные свитки от высыхания. И все в том же роде. Одно письмо из центра, и, собственно, даже не письмо, а официальное распоряжение Наркомпроса.
Наконец, вот настоящее письмо. Пишет из Парижа старый друг, поэт, прозябающий в изгнании. Поэт пишет:
«Ты знаешь, что, несмотря на суровую внешность, я всегда был галантен с дамами. Двух, только двух я не выношу. Первая — это Смерть, вторая — Революция.
Но с первой я знаком, к счастью, только понаслышке. Зато вторая...»
Адриан Адрианович в знак согласия кивает головой.
Луна спокойно плывет над морем, обливая серебром и чернью небольшую яхточку, стоящую на якоре против школы второй ступени.
И еще одно письмо. На дешевом, невыразительном конверте бледно промямлены буквы адреса. Адриан Адрианович вскрывает конверт и читает: «Дорогой, милый дядя!»
Он останавливается: дядя — чей же это он дядя?
Вспомнил. У него действительно была племянница. Звали ее Аглая. С нею как будто что-то случилось. Вспомнил. Она вышла замуж за коммуниста. Так что же она хочет, эта Аглая с нежным профилем византийской царицы Феодоры? Она так долго не подавала никаких признаков жизни, и вот теперь она пишет. Оказывается, она хворает (впрочем, это понятно). Мужа ее послали в Сибирь насаждать кооперативы, а ей с детьми необходимо море. Она вспомнила о милом, дорогом дяде и думает, что он не откажет ей в гостеприимстве. Она ждет телеграфного ответа. Адриан Адрианович долго размышляет. С одной стороны, лето, конечно, пропадет. Но с другой стороны — Аглая крошкой была мила и забавна... Она любила плоды и сказки. Однажды, увидав кокосовый орех, она сказала:
— Если это мяч, почему он не прыгает, а если обезьяна, то где хвост?
Адриан Адрианович будит Афанасия в его чуланчике под лестницей, куда лунный свет проникает, как кинжал, сквозь узкое окно, дает ему записку и деньги и говорит:
— Завтра утром отнесешь на телеграф. — И, уже уходя, добавляет: — И приведешь в порядок запасную комнату, где стоят старые рамы.
4.
Извозчик Костя, чья пролетка, единственная в городе, снабжена рессорами, подъезжает к крыльцу и высаживает гостей. Сначала он извлекает из недр своего экипажа бледную незнакомую женщину (не Аглаю) с младенцем на руках, затем большой чемодан, затем маленький чемодан. И, наконец, с высокой подножки спрыгивает Аглая, точно такая, как в день кокосового ореха. У Аглаи тот же маленький нос, на котором три разнокалиберные веснушки расположены, как дырочки на трехдырочном пере. У Аглаи та же каштановая гривка и глаза как у византийской царицы.
— Здравствуйте, дядя, — говорит незнакомая бледная женщина (не Аглая). — Дядя, вы не узнаете меня? Я — Аглая. А вот моя дочь, ей шесть лет, а это мой сын, ему одиннадцать месяцев, и у него уже три зуба.
Адриан Адрианович, при помощи Афанасия, вводит гостей в дом, водворяет их и, наконец умытых и освеженных, кормит поздним обедом в своей угловой комнате. Младенец с тремя зубами, утомленный путешествием, спит тут же в кресле. Адриан Адрианович разговаривает с настоящей Аглаей, а сам все глядит на ее дочь, похожую на малолетнюю Феодору. Феодора молчит и уплетает за обе щеки баранью котлету. Дети всегда дети.
Они всегда одинаково любят плоды и сказки.
И эти плоды и сказки неизменны. Аглая, например, больше всего любила апельсины. И Адриан Адрианович, взяв из вазы большой золотистый шар, подает его Аглаиной дочери.
— Я больше люблю яблоко, — отвечает та звонким голосом.
Адриан Адрианович поражен:
— Почему же? Ведь апельсин вкуснее.
— Зато яблоко твердое, и его можно грызть.
А апельсин как-то сам жуется, — говорит с полным самообладанием дочь Аглаи и, минуя апельсин, берет себе твердое румяное яблоко.
Со стола убрано. Афанасий, с трудом справляясь с метлой, подметает пол. Аглая, обрисовав Адриану Адриановичу в кратких чертах свою жизнь за эти годы, равно как и положение кооперации в Сибири, уходит к себе в комнату кормить сына манной кашей. Адриан Адрианович остается один со своей внучатной племянницей.
Как это часто бывает на юге ранней весной, закат суров.
Крепкий ветер ерошит море, и оно покрывается короткими гневными волнами. Ветер хлопает дверьми, треплет в саду кусты жасмина и, наконец, выждав захода солнца, бросает в стекло первый пучок дождевых капель.
В комнате опускают шторы и решают затопить камин. Дрова принесены. Камин зажжен, и пламя бушует так же грозно, как, вероятно, бушевало в контрабандистские ночи Николая Ставраки, а еще раньше — во всех очагах земли. Адриан Адрианович решает, что наступил час для более близкого знакомства с новой родственницей.
Она сидит на корточках перед огнем. По ее лицу видно, что она вполне отдохнула с дороги, очень сыта, довольна жизнью и расположена к дружеским беседам.
— Ну, дитя мое, — начинает Адриан Адрианович, взяв кочергу и тоже садясь на ковер, — давай потолкуем.
Ведь я даже не знаю, как тебя зовут.
— Майя. А тебя, я знаю, зовут Адриан и еще Адрианович.
Но я буду звать тебя дедушкой.
— Зови, дитя. Майя — прекрасное и содержательное имя. По-индийски означает — мечта, иллюзия. Еслиу тебя нет носового платка, милая, возьми мой.
— Нет, не «мечта», а «Первое мая», и не по-индусски, а по-русски.
— Первое мая... Вот как. А сколько же тебе лет, Майя, девочка? Мама сказала мне, но я забыл.
— Шесть лет. Я на три года моложе революции, но расту вместе с ней. А тебе сколько, дедушка?
— Шестьдесят один, — покорно отвечает Адриан Адрианович и с раздражением спрашивает: — А кто тебе это сказал про тебя и революцию?
— Папа сказал. Он все знает. А знаешь, как зовут нашего мальчика? Его зовут Рэм.
— Прекрасно, — облегченно вздыхает Адриан Адрианович, ударив кочергой по головешке. — Теперь необходим только Ромул. Надеюсь только, что его вскормила не волчица?
— Нет, у нас была коза, потому что мы жили за городом. А, дедушка, что значит Ромул?
— Что значит?
— Да. Из каких слов? Рэм значит: революция, элект...рификация, метарул...металлургия. А Ромул — как это?_
— Майя, — в полном отчаянии произносит Адриан Адрианович, — а ты любишь сказки?
— Люблю, — отвечает Майя. — Про то, как мальчик поехал в город Ташкент за хлебом.
— Нет, девочка, это рассказ.
Сильный порыв ветра проносится над домом. За окном мрачный вечер, шумит море. В комнате горит огонь.
Великолепная оправа для жемчужины, какой является сказка, рожденная в раковине народной мудрости.
— Слушай, Майя, — говорит Адриан Адрианович, — я сейчас расскажу тебе сказку, — точнее говоря, миф.
— А что такое миф? — немедленно спрашивает Майя.
— Миф — это тоже сказка, только старая-престарая и оттого еще более прекрасная. Сядь поближе и возьми все-таки мой платок.
Майя, округлив глаза, впивается ими в Адриана Адриановича, и сказка начинается.
— Очень давно, — начинает Адриан Адрианович, — жила на свете девочка Прозерпина. Она была прелестна.
Если мы с тобой когда-нибудь поедем в Париж, я покажу тебе Прозерпину такой, какой изобразил ее художник Моро: с черными кудрями, смуглую, с гранатом в руке и губами, напоминающими полуоткрытый гранат.
Однажды случилась такая вещь: Прозерпина со своими подругами собирала на лугу белые цветы.
— Ромашки?
— Нет, не ромашки. Вероятно, это были нарциссы, только больше и душистее теперешних. Она шла, и цветов становилось все больше. Прозерпина, оставив подруг, уходила все дальше... И вдруг... — Адриан Адрианович встал, отодвинул кресло и кочергой провел по полу. — Ты представляешь себе: скамеечка для ног — это Прозерпина, цветы на ковре — настоящие цветы. И вдруг у книжного шкафа разверзается земля — и в колеснице, запряженной огнедышащими конями, появляется Плутон, у которого там, внизу (Адриан Адрианович постучал кочергой об пол), было свое царство.
Он, как цветок, схватил Прозерпину, и земля сомкнулась над ними.
— Плутон жил в подвале? — замирающим голосом спрашивает Майя.
— Не в подвале, а под землей. У него там были свои владения. Там было все как на земле, только никогда не светило солнце и не шел дождь, как вот сейчас.
— Дальше, рассказывай дальше, — торопит Майя.
«Ага! — злорадно думает Адриан Адрианович, ставя кресло на место. — Ты хочешь дальше? Я вижу, что ташкентский мальчик значительно поблек в твоем воображении».
И он рассказывает дальше:
— У Прозерпины была мать Церера. Эта мудрая и неисчерпаемо добрая женщина заведовала всеми растениями на земле. Узнав о несчастий с Прозерпиной, она полетела искать ее.
— На самолете? — спрашивает Майя.
— Нет, пешком. Но она ничего не узнала. Тогда, сняв с себя богатый плащ, затканный колосьями, и облачившись в рубище, она пошла в чужие края. А за то, что никто из земных созданий не открыл ей тайну исчезновения Прозерпины, она наказала землю, лишив ее цветов и плодов. В тот год не было ничего.
— И яблок?
— Разумеется.
— А что же ели люди?
— Гм... Вероятно, консервы, купленные в кооперативах.
Но слушай дальше... Церера шла, шла и пришла в чужое царство. Тогда все было просто, и ее тотчас же привели ко двору. А там была радость: у царя и царицы родился долгожданный сын, и царица-мать подыскивала ему...
— Козу?
— Нет, кормилицу. Когда Церера вошла в царские покои, она поразила всех своей осанкой и лицом. Узел ее волос был тяжел, как сноп, а складки одежды напоминали борозды от сохи. Глаза были глубоки, как вода. Царица сейчас же почувствовала, что все живое должно процветать под присмотром этих глаз, и предложила Церере воспитывать сына. Церера согласилась, но с одним условием...
— Маинька, — раздается в это время голос Аглаи, — тебе спать пора. Я и так извелась. Рэмик капризничает ужасно: четвертый зуб режется или простудился, уж не знаю.
— Нет, нет, — просит Майя, — я должна знать, какое условие. Я ведь так не могу.
— Еще пять минут! — кричит Адриан Адрианович в другую комнату. —Через пять минут, по часам, я сам приведу ее. Ну вот: согласилась с одним условием, чтобы ни отец, ни мать и никакой родственник не подсматривали за ней и не давали ей советов. Чтобы ей предоставили полную свободу. Так и порешили. Время шло.
Мальчик уже становился на ножки и был так здоров, красив и весел, как ни один младенец в государстве. Он ничем никогда не болел и никогда не простужался. Даже когда у него шли зубы, он улыбался.
— Не может быть, — говорит Майя.
— Уверяю тебя. Тогда царица-мать решила подсмотреть, какими средствами достигается такое чудесное здоровье.
— Спортом, — замечает Майя. — Папа говорит...
— Молчи. Однажды поздно вечером, когда все легли спать, царица, сняв башмаки, подкралась к дверям детской. Что же она там увидела?
— Что? Ну что?
— В детской горел очаг. Груда углей сверкала червонным золотом, вот как здесь. Церера раздела малютку и внимательно осмотрела его тельце. Нагое дитя, белое, как пена, глядело на огонь, и пламя отражалось в темных зрачках. Церера подошла к очагу, разгребла уголья и, как в песок, посадила туда ребенка.
— Ах! — шепотом вскрикивает Майя.
— Да. А мальчик смеялся. Он был счастлив. При виде сына в огне царица испустила громкий крик. И, как бы в ответ, отчаянно заплакал ребенок, ощутивший боль.
— Как? Я не понимаю.
— Это было волшебное средство. Не нужно забывать, что Церера была богиня. Она хотела сделать из ребенка неуязвимого героя и уже добилась того, что он не ощущал, например, ожогов. Но смертный глаз не должен был ничего этого видеть. Мать все испортила.
— Неуязвимого героя...— повторяет Майя мечтательно. — Но мать все испортила. А что такое богиня?_
— Пять минут прошло, — заявляет Аглая, появляясь на пороге. — Я требую, чтоб ты немедленно шла спать. Уже поздно. Рэмик тоже наконец уснул. Измучил он меня.
— Идем, идем, Майя, — говорит Адриан Адрианович, вставая. — Мы слово дали.
— А Про...зернина? Что сталось с ней?
— Я доскажу тебе завтра, если тебе интересно.
— Мне интересно.
Майя медленно идет к двери. Движения ее неуверенны, глаза пристально раскрыты. Очевидно, перед ней далекий очаг, царский ребенок, плащ в колосьях, водоворот необычных образов, в которых она тонет.
У выхода она останавливается:
— Ты мне доскажешь завтра?
— Непременно.
— Но сегодня скажи мне только одно: все это правда или нет?
И тут старый и умный человек, грудью отстаивая свое собственное детство, дает ребенку лукавый ответ:
— Это миф, Майя, — говорит он. — Миф. Все это было так давно, что никто в точности не знает, было это или нет. Спи крепко, девочка.
5.
Непогода кончилась. Туча, вздрагивая зарницами, ушла за горизонт, и узкая ущербная луна встает над морем. Мокрые кусты жасмина усыпаны тяжелыми благоуханными брильянтами.
На старом диване, заменяющем ему кровать, Адриан Адрианович засыпает. В камине легчайший треск догорающих углей. Сквозь незанавешенное окно — легчайший дым луны. Сон все ближе и ближе подходит к старому дивану. Он трогает кисти, он трогает подушки, он касается седых волос, и Адриан Адрианович уже спит. Он видит поле ржи, которое в то же время и море.
Над ним облако, крылатое, как плащ. И вдруг из этого облака низвергается молния. Раздается страшный удар грома и страшный крик._
Адриан Адрианович открывает глаза. Перед камином, белея длинной рубашкой, залитая слезами, дрожит Майя. За ней Аглая, еще более бледная, чем днем.
Отчаянно кричит маленький Рэм на руках у матери.
В дверях трясется Афанасий в нижнем белье.
— Что, что случилось? — спрашивает Адриан Адрианович, стараясь перекричать Рэма.— Зачем вы все здесь? Афанасий, дай мне валерьянку! Говорите же!
Они говорят все сразу.
— Господи милостивый! — причитает Афанасий, шаря на полке. — Иду это я по коридору парадную проверить и вижу, господи милостивый, — барышня тащит младенца-брата, сама не в себе. Глазки горят — и прямо в кабинет. Толкнуло меня будто. Я за ними, а они младенчика в камин кладут, как головешку, господи милостивый.
— Сплю я, — всхлипывает Аглая,— слышу шорох.
Открываю глаза — детей нет. Выбегаю, смотрю — Майкина рубашка мелькнула. Успела вбежать как раз в ту минуту, когда она... Рэма... в огонь. Счастье, что все уже прогорело, почти один пепел остался. Ручка, ручка болит у мальчика моего. Аа-аа, ребенок мой, цыпленочек мой! Ах ты скверная девчонка...
— Постой, постой, Аглая, — перебивает ее Адриан Адрианович, — так нельзя. Смотри, она вся дрожит.
— Я... я хотела сделать из него... неуязвимого героя, — рыдает Майя, — но мать помешала, как в тот раз...
Все легли. Даже Рэм, присыпанный содой, уже спит.
Рассвет уже тронул море, звезды с каждым мгновением бледнеют. Но Адриан Адрианович не может спать.
Он сидит у стола и при неверном свете лампы пишет своему другу-поэту в Париж, отвечая на его письмо.
«Все меняется, — пишет он, — даже дети. Что было хорошо для нас, гибельно для них. И наоборот...»
***
Вера Инбер. Публикуется по сборнику «Ловец комет», 1927 года.
Из собрания МИРА коллекция