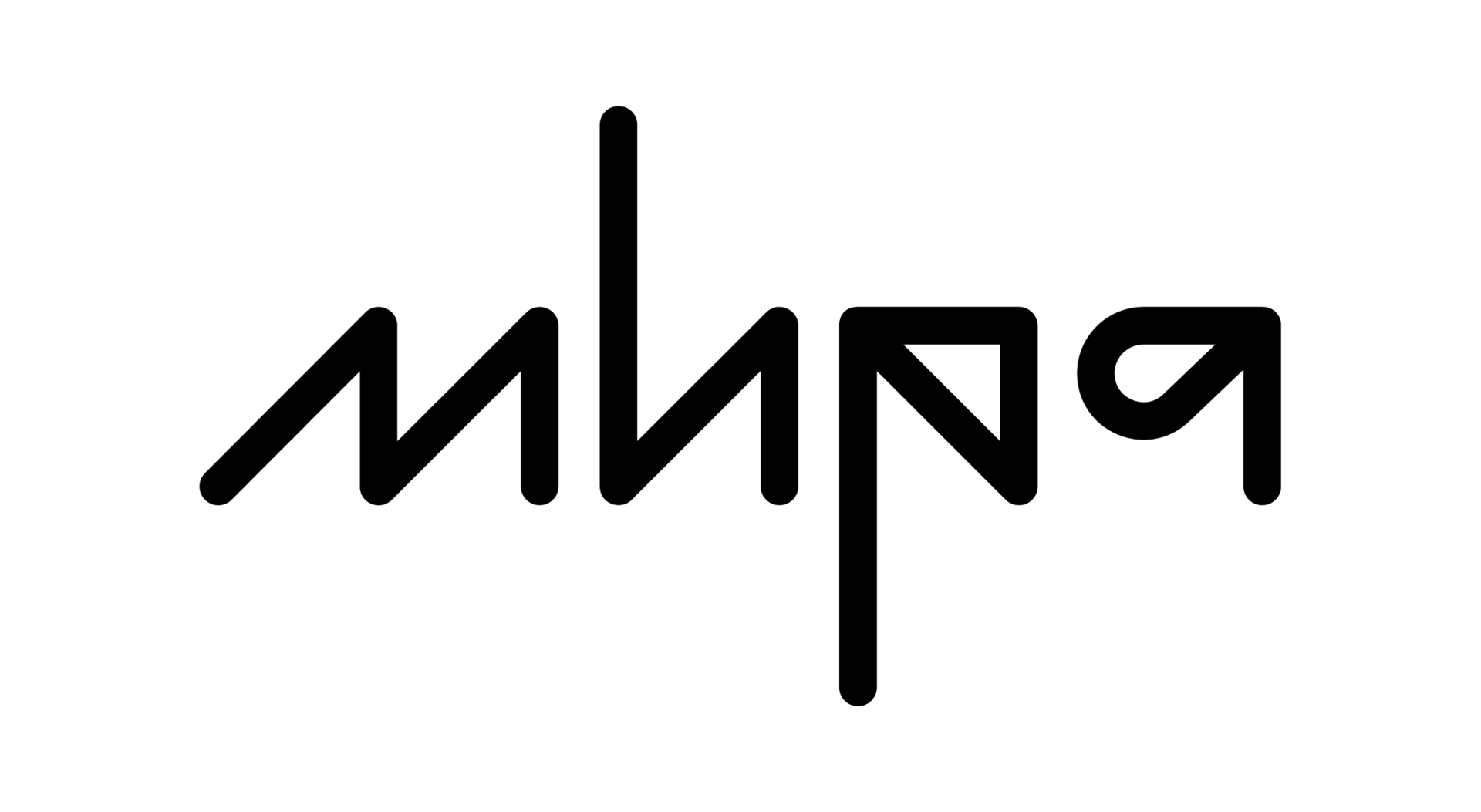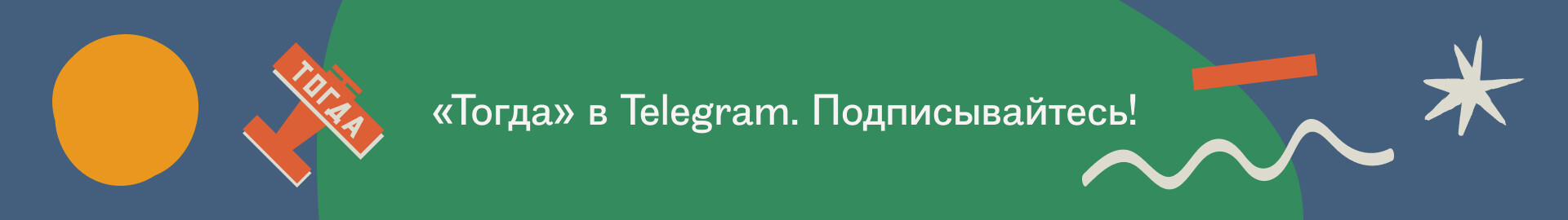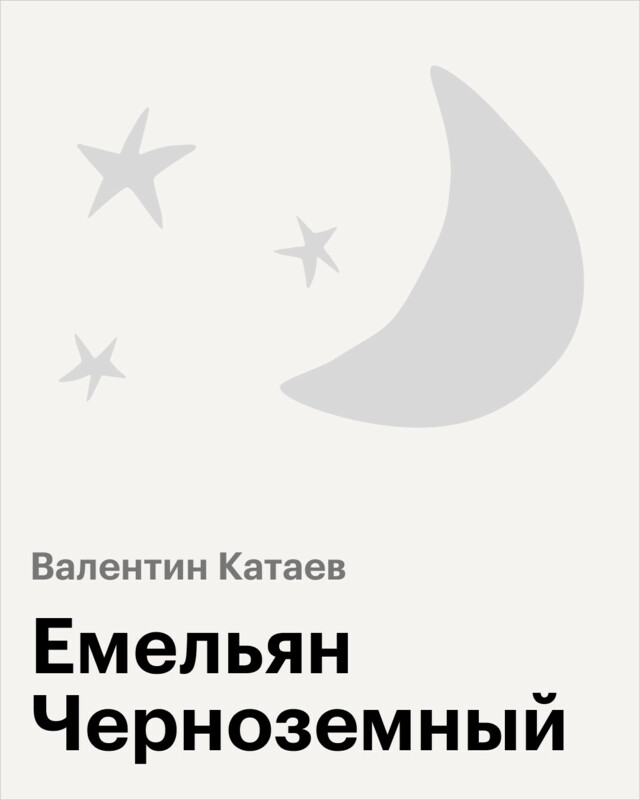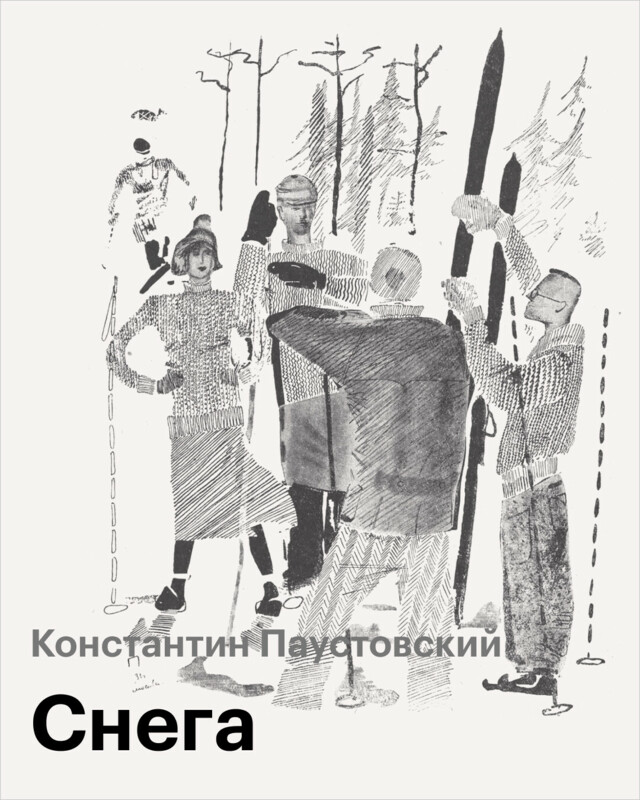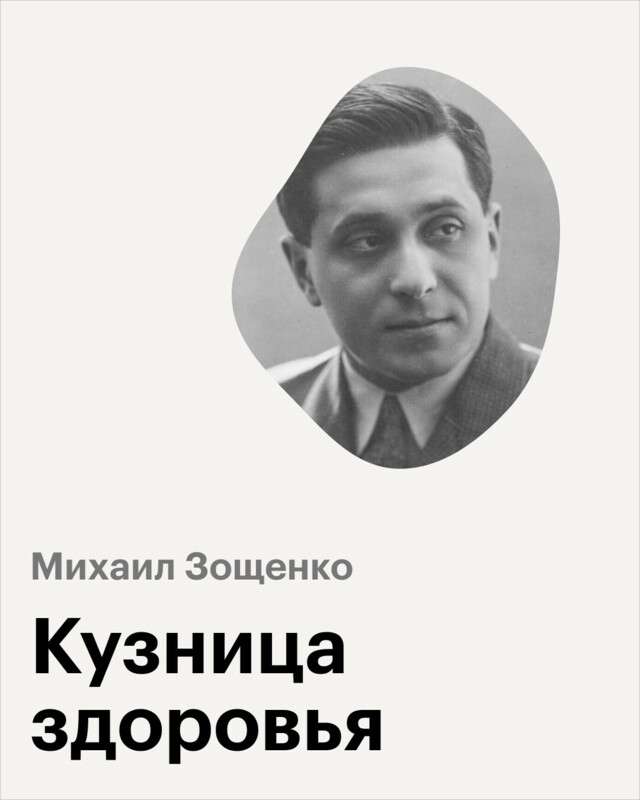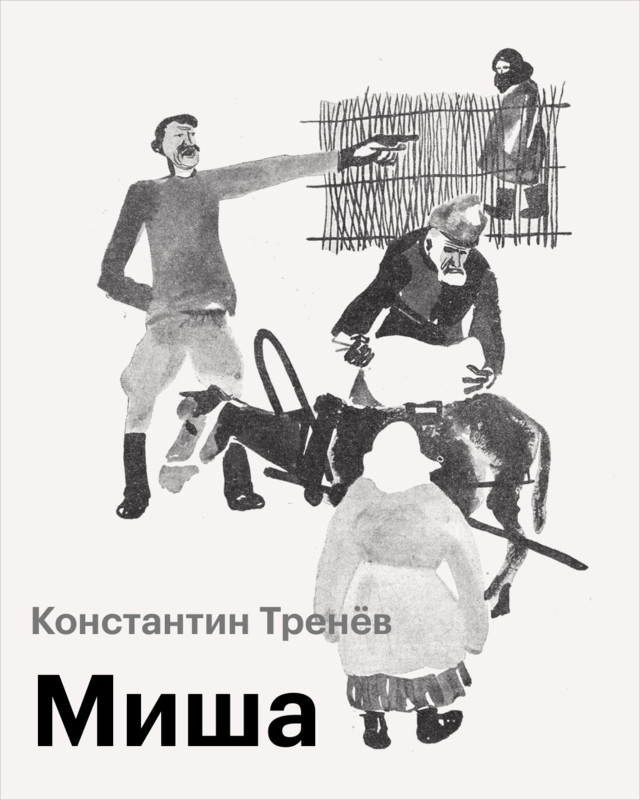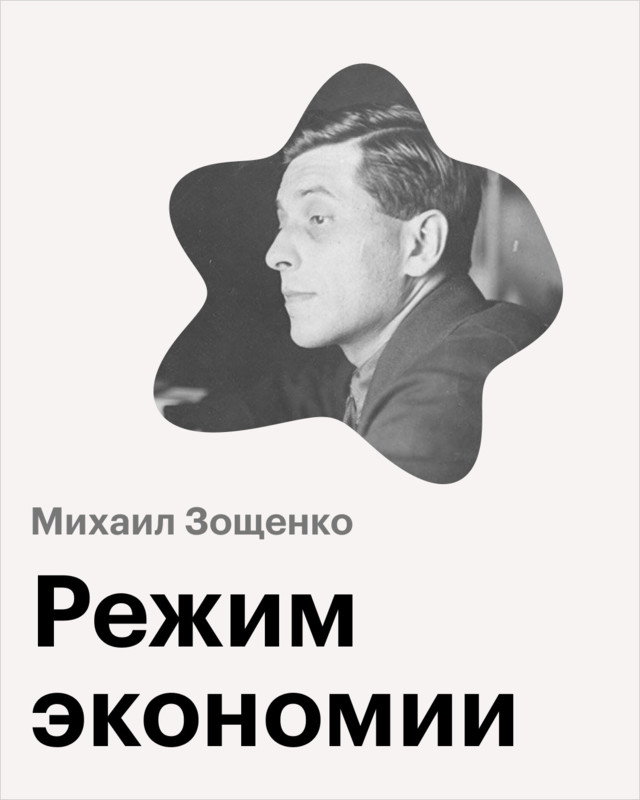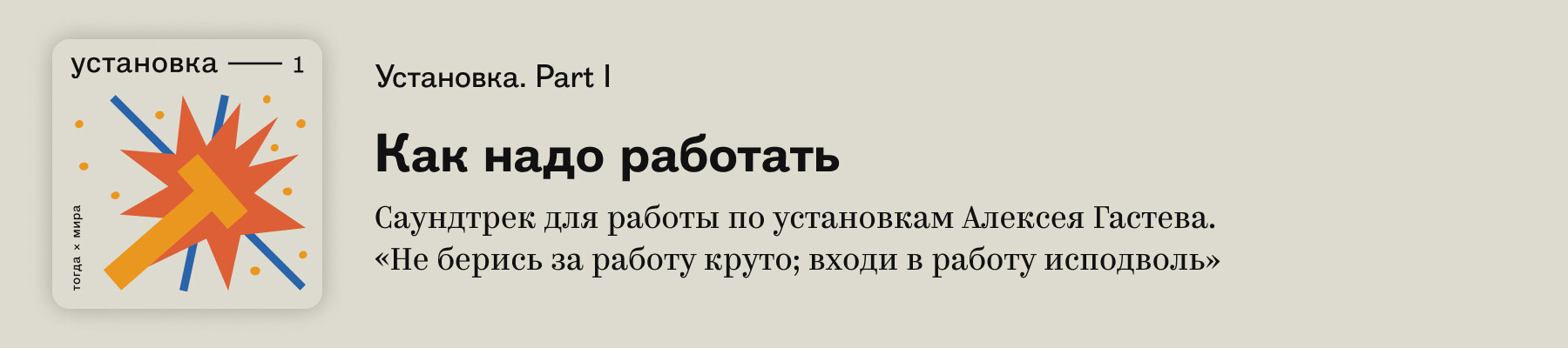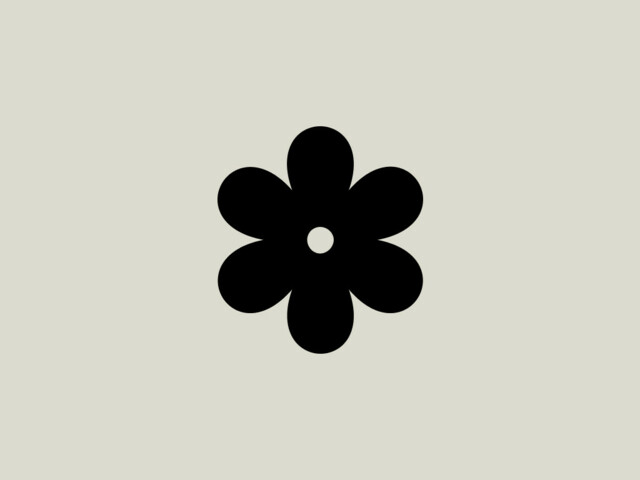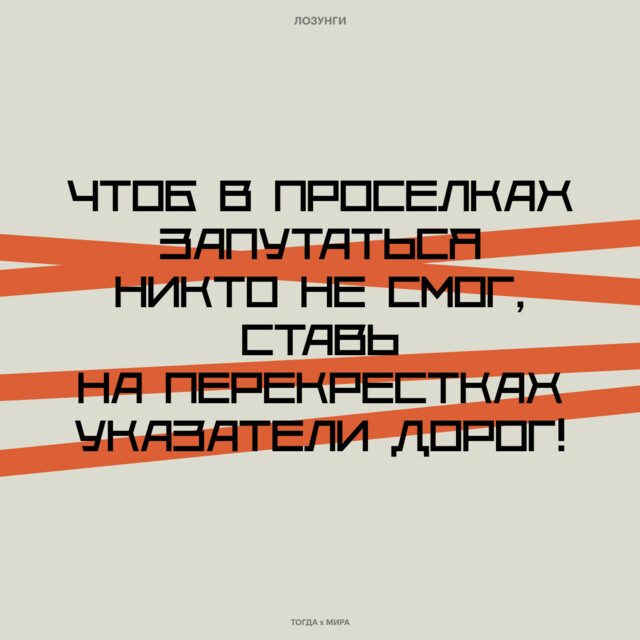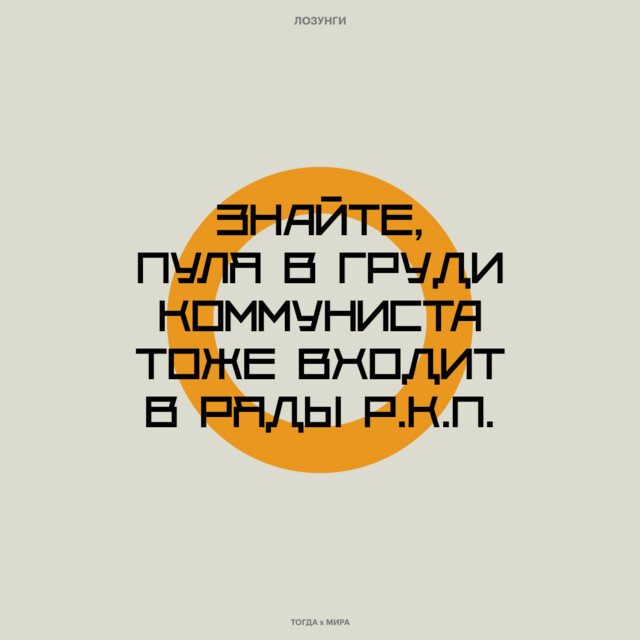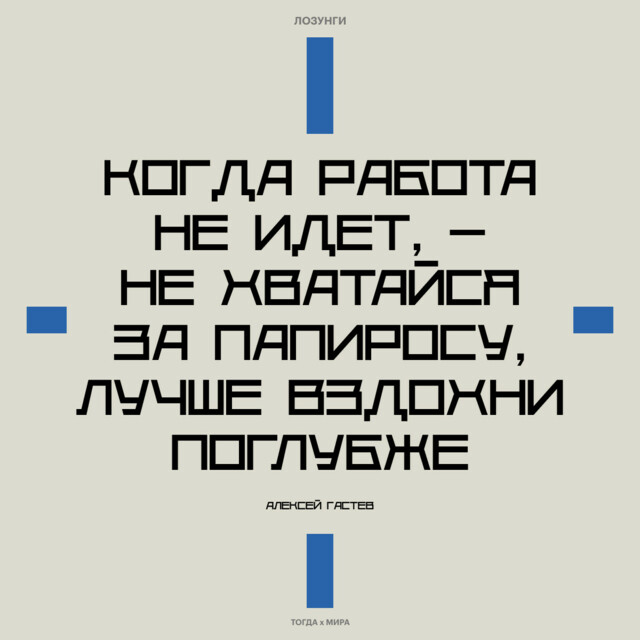«Мой знакомый». Юрий Олеша

Многое зависит от квартирных условий.
Скажем, если бы в квартире, где я живу, была ванна, душ, я принимал бы каждое утро душ. Душ можно было бы принимать и перед отходом ко сну.
У меня есть спокойный, жизнерадостный знакомый.
Он говорит замечательные вещи о проживании в квартире с ванной и душем. У него имеется специальный халат, бог весть, откуда пришедший к нему — заграничный купальный халат.
Приняв ванну, жизнерадостный знакомый надевает халат и направляется... куда он направляется, в точности не представляю. Возможно, просматривать иностранный журнал, возможно — любить молодую жену.
Я вижу его входящим в комнату, где от паркета исходит соломенное сияние; халат —длинен и художественно неуклюж, как риза; над полом раскачиваются кисти.
Что ж, это правильно: надо жить так, вот именно так... Надо любить себя, воспитывать вкус к жизни и, главное, — не торопиться, не суетиться.
Жизнерадостный знакомый говорит:
— Мы оторваны от Европы. В Европе установлен культ спорта, гигиены и комфорта. На этой триаде покоится здоровое, уравновешенное и победоносное сознание современного европейца.
Он молод, ему двадцать пять лет. Он служит, состоит в профсоюзе и числится на военном учете.
Размышляя о нем, я раздражаюсь. Размышляя о своем раздражении, я раздражаюсь еще более, потому что явственно обнаруживаю в природе этого раздражения зависть.
«Он прав, — думаю я. — И не прав я, восставая против комфорта, спорта и гигиены. И не прав я думая, что он ничтожен и глуп, потому что моется, приобретает халат и играет в теннис».
Я никогда не умел наслаждаться жизнью.
Мне тридцать лет.
В литературе о тридцатилетнем герое говорится так: «он был молод, ему едва исполнилось тридцать лет». Едва! Правда, в «Войне и Мире» Андрей Болконский на тридцать первом году жизни вдруг почувствовал себя старым и решил, что жизнь прошла. Но он же через несколько страниц воскликнул, что в тридцать один год — еще не прошла жизнь!
Я чувствую себя старым. Не знаю, когда оно наступило, это постарение. И, может быть, оно не наступило вовсе; быть может, сознание постарения ошибочно; быть может, виной всему квартирные условия, отсутствие ванны и душа, и утр, сияющих соломенным блеском!
Я думаю так: мы, тридцатилетние, — целое поколение тридцатилетних, так называемых интеллигентов — мы слишком скоро постарели.
Почему?
Революция произошла в тот год, когда мы получали аттестаты зрелости. Большинство из нас думало: вот мы кончаем гимназию, вот цветут акации в гимназическом саду, лепестки ложатся на подоконники, на страницы, в сгиб локтя, — вот весна нашей жизни! О, какими замечательными мы будем людьми!
Так думали мы.
У нас были отцы, дедушки, дяди, старшие братья.
Это была галерея примеров.
Нас с детства вели по этому коридору, повертывая наши головы то в одну, то в другую сторону. В этом коридоре слова произносились шёпотом, шёпотом назывались имена дядь и двоюродных братьев.
Это были инженеры и директоры банков, адвокаты и председатели правлений, домовладельцы и доктора. Это были бороды, расчесанные на-двое, — обязательно бороды: пенящиеся, а также длинные, как мечи, и короткие — котлетообразные.

И часто в тени бороды, как дриада в лесу, ютится орден. Руки были скрещены на груди, что говорило об исполненных задачах, и головы несколько откинуты, чтобы виден был блеск честных лбов.
Каждый из нас, семнадцатилетних, должен был стать инженером, адвокатом; у нас должны были вырасти бороды.
Все было известно: были известны магазины, где покупается сукно для студенческих мундиров, и рестораны, подходящие для выпускных пирушек,
Было известно, какой подарок получает сын после окончания гимназии, какое благословение присылает главный родственник, — и всегда находился сбившийся с пути талантливый дядя, который присоединялся к торжеству племянника, вел его в публичный дом, пировал, веселился и плакал, вспоминая на живом примере свою растраченную молодость.
У каждого из нас имелся такой дядя. Считалось, что у такого дяди — золотое сердце.
Его погубила женщина... нет, не женщина! Игра в карты? Нет! Неизвестно, что погубило золотосердого дядю. Братья отвернулись от него. Он был предосудителен, но семья немножечко им кокетничала.
При воспоминании о нем говорилось: каждый кузнец своего счастья. Дядя не, сковал своего счастья.
***
Все было известно.
В семнадцать лет оканчивали гимназию, пять лет полагалось на университет, к тридцати годам уже сказывались первые результаты ковки счастья. В тридцать лет начиналось положение в обществе.
Разве большинство из наc предполагало, что порядок изменится?
Он изменился.
Мы собрались ковать свое счастие, а материал, из которого мы должны были его ковать, уничтожился.
Главным в этом материале было стремление к независимости. Независимость достигалась обогащением.
Нас учили: учись, будешь богатым. Деньги дают свободу.
Мальчик, росший в нищей семье, талантливый сын бедных родителей, в хищениях находил даже радость.
Применялось так называемое стискивание зубов. Это было приятно и почетно — стискивать зубы. И это бывало началом многих великих биографий.
Юноша стискивал зубы. Это значило: ничего, ничего, подождем, я беден, но я добьюсь, но я заставлю, мы посчитаемся...
И он добивался. Он учился, опережал сверстников, вступал в общество победителем, был богат и славен.
С революцией стискивание зубов стало бесполезным. Одинокий путь нищего, обретающего богатство и признание, разом оборвался.
Буржуазия принимала в свой круг разбогатевших нищих и прощала им мстительную их заносчивость и кокетничала ими и даже кичилась.
После революции запальчивому нищему стало некуда идти. Гадкие утята перестали превращаться в лебедей.
Кузнецы своего счастья остались с молотами в руках и без материала. Широко размахнувшийся молот — и не по чему бить.
Так некоторые стали авантюристами и лжецами. Так большинство повисло в воздухе.
Мы знали, как начинается самостоятельная жизнь члена общества, как она развивается, как достигает расцвета и как переходит в галерею примеров.
Мы усвоили закономерность и чередование сроков.
Была логика брака, отцовства, семейственности, долга, совести; были твердо установленные нормы: боязнь крови, хвала великодушию, прощению, оправдание компромиссам, цена девственности.
Был образец человека. Это был отец кого-нибудь из нас, дядя, дедушка, знакомый, директор гимназии.
Он произносил слова: невеста, жених, жизнь, душа, награда. Мы не только слышали их, — мы их видели! Они испускали лучи, их можно было нести в руках, как хрустальные сахарницы. Они жили — эти слова — как природа, как деревья, образовывали ландшафт, возвышенный и печальный, как встреча или расставание с родиной.
И все это оказалось ложью.
И все это исчезло, испарилось, развеялось по ветру. И не успели разлететься последние листья, как мы уже прошли по ним без всякого сожаления.
Нам много говорили о справедливости. Нам говорили и том, что бедность — добродетель, что заплатанное платье прекрасно. Эти слова волновали нас, и мы давали обещание быть добрыми.
В один год все полетело к чёрту. Не все заплатанные платья оказались прекрасными, и не всякая бедность — добродетелью.
Справедливостью стало только то, что полезно угнетенному классу.
О, какими серьезными, умными, какими взрослыми должны были бы мы оказаться в тот год, мы, семнадцатилетние юнцы, уважавшие старость, авторитет и знатность.
И вот теперь нам тридцать лет.
Прошлого у нас нет.
Настоящее наше — мысль. Мы думаем, мы мучительно думаем, мы хотим быть мудрыми.
Мы хотим все наши понятия о добродетелях подвергнуть переработке ради того вывода о справедливости, который стал для нас единственно важным в тот год, когда произошла революция.
Мы гораздо умнее и лучше, чем наши отцы.
Не надо упрекать нас в том, что мы не умеем устроить нашу жизнь. Мы часто неряшливы, у нас нет душей, мы нервны через меру, крикливы, задумчивы, рассеяны, и щеки у нас не всегда выбриты.
Мы прекрасно понимаем, что неврастеничность наша противна‚ революционной молодежи, над нами смеются. Это делает нас еще более старыми.
Жизнерадостный мой знакомый в хороших отношениях с портным. Они советуются о покрое, долго советуются, устраивают встречи, — покрой должен быть самым последним, модным, — крик. Как в Европе.
Он говорит:
— Сейчас это уже не носят.
Где не носят? В Европе.
Он не был в Европе, но ему известно все.
— Сейчас это уже не танцуют.
Он все знает. (О, я просто завидую ему!)
Он островитянин среди нас. Расстояние, отделяющее его от европейских границ, — только лишь география. Это расстояние можно проехать. Так просто.
Я ненавижу моего жизнерадостного знакомого. Он тень того меня, которого уже нет. Я шел, я дошел до года, ставшего рубежом, — дошел и исчез. И вот меня нет такого, каким я был, когда подходил к рубежу. Я стал другим.
И вдруг я вижу: появилась тень! Моя тень существует самостоятельно, а я стал тенью. Меня считают тенью, я невесом и воздушен, я — отвлеченное понятие, а тень моя стала румяной, жизнерадостной и с презрением поглядывает на меня.
Откуда он появился, этот лебедь, никогда не бывший гадким утенком? Кто его воспитал? На что он рассчитывает? Неужели он твердо убежден, что расстояние между нами и Европой есть только географическое расстояние?
Я хочу быть неряшливым и небритым. Я подожду. Мне ничего не жаль.
У меня нет прошлого. Вместо прошлого, революция дала мне ум. От меня ушли мелкие чувства, я стал абсолютно самостоятельным. Я еще побреюсь и приоденусь. Я еще буду наслаждаться жизнью.
Революция вернет мне молодость.
***
Юрий Олеша. Рисунки: Юлий Ганф. Публикуется по журналу «30 дней», № 12 за 1929 год.
Из собрания МИРА коллекция