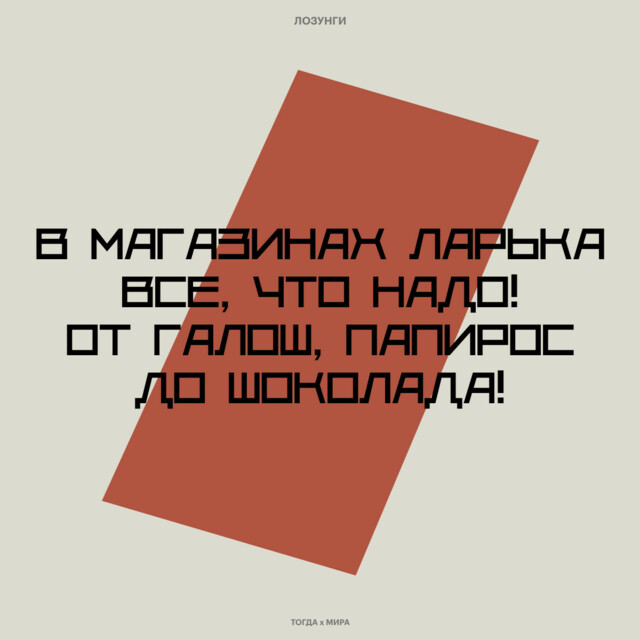«Двое». Владимир Бахметьев

Миновала десятая годовщина Октября, многое изменилось на заводе и на улице: в слесарной появились новые станки, болтовой перестроился, производительность соседней ткацкой фабрики удивляла всех, — и в то же время на улице, там, где лежал пустырь, на глазах Павла, вырос огромный каменный дом — первое рабочее общежитие, и уже закладывались фундаменты под другие два дома.
И еще была новость: где вчера стояли в бурьяне стены недостроенной фабрикантом Ожогиным церквуши, высился теперь с башенками, с расписным фронтоном, просторный, глазастый районный клуб. Каждый вечер здесь победно пылали электрические солнца, и молодая толпа певуче и яро гудела вокруг, как некий, неслыханной силы оркестр: то была маршевая музыка юности и роста.
И уже не было трактирчиков по улице с унавоженными перед ними мостовыми, не мозолили глаза осточертелые калитки в тайные кабачки и притоны, меньше попадалось пьяных, почти не слышно было надсадных женских воплей и криков детей, и тут, в тылу завода, у веселого пруда, на лужайке, обсаженной кленами, каждый праздник гремит многоголосое эхо футболистов...
В сумерках, под Чистым и ясным, как будто помолодевшим небом, при свете влажного заката вся улица, глыбы завода вдали, узорчатые башенки клуба и висячий железный мост через пути, — все вокруг казалось Павлу новым, желанным. Сердце его сладко ныло и глаза жадно вбирали свет и краски.
Что сталось с улицею, как неузнаваемо изменилась жизнь ее, та, которую знал Павел по своему детству. Только и было от того времени, что покосившиеся домишки ткачей, да всхрипы одиноких пьяных гармоник... Но и от этого скоро останется одно воспоминание.
Вон она — крепость новых людей: многоэтажный домина, где есть общая, на сотню душ, столовая, прачечная, зал под красный уголок, где каждая квартирка залита солнцем и где люди научились наконец ценить чистоту и воздух.
А там, на лужайке, куда так неодолимо тянет молодость, там, у пруда, где когда-то ткачи бились, стена на стену, с заводскими ребятами и трещали кости и брат у брата извлекал в пьяном угаре последние капли крови, — там теперь жеребятами гогочут неуемные футболисты... Они тоже идут стеною на стену, команда на команду, и команда ткачей — в красном, а заводские — синие. И пылает, орет, буйствует зеленый лужок, похожий на охапку движущихся живых цветов... Какое счастье иметь здоровые, сильные, как крылья у птиц, голени!..
***
Павел бредет из конца в конец улицы, его, как пьяницу кабак, магнитят футболисты, каждый праздник он сам не свой от этой игры, а ведь ему, стыдно сказать, девятнадцать чет.
— Ты куда, опять ногами думать? — кричит из окна голос, не то насмешливый, не то вовсе злой.
Павел оборачивается и видит Антона; лежит грудью на подоконнике, свесивши, как увядший подсолнечник, желтую свою голову.
— А ты что, завидуешь?..
— Есть чему! Скоро у вас все мозги в пятках будут.
— Ну, ладно, ладно... Читай себе своих Ницшенов, а я уж... поживу за тебя…
Павел идет своею дорогой, но уж неё так ему весело, и с минуту он не замечает вокруг ни света, ни красок... Вот какой этот Антон-Стратон, унылая голова, дырявое сердце... И вечно-то недоволен, и все-то не по его, да не по нем... Не видит, не слышит, как стучится жизнь, та самая, за которую дрались... как стучится она в ворота этой улицы — улицы Энтузиастов, улицы азиастов, как говорят тутошние старухи.
— И откуда они берутся, азиасты эти?..
— Известно, откуда: азиаст азиаста родит... Вот как, бабушка!..
Нет, он, пожалуй, не будет сегодня связываться с футболистами... По нему ли забава?
Да, он только посидит на лавочке да полюбуется на синих... Знатные ребята, они всегда в победителях: мускулы их надежны, подошва ног их широка, но легка... Где уж против них красным.
Да, он только посидит здесь, на скамье, и еще раз проверит ошибки вратаря красной команды. Дело в том, что Ванька — вратарь горячится более того, что здесь требуется.
Всякий раз, усаживаясь на скамью, рядом с зеваками, Павел дает себе обещание не ввязываться, а потом все время испытывает раздражение: игра затягивается, ему приходится терпеть, ждать перерыва...
Но вот, последние сигнальные звуки, синие кричат в победном восторге: они опять имеют 4 против 2, и Павел со вздувшимися ноздрями, как конь перед бегом, торопливо идет в круг, выгибает дугою грудь, прикладывает руки ко рту и кричит:
— Эй, вы, красные! Пусть ваш вратарь передохнет... Я — стану...
Красные согласны, они не скрывают своего удовольствия, а синие помалкивают, гордые собою и великодушные.
Игра начинается.
Уже на восьмой минуте преимущество оказывается: на стороне красных — в один мяч.
Синие нервничают, Павел видит это. «Клюет», думает он и забывает все на свете... К концу «синие» сравнивают счет: 3 и 3. Красные торжествуют... Ведь это значит, что они не безнадежны!
Уставши до предела, но с ощущением силы, которую ничем не исчерпать, Павел, уже в потемках идет к себе; в свою комнату, валится в постель и засыпает. Засыпал, в сладкой дреме, в голубом песенном мире, он вспоминает Антона, его убогие думы и улыбается.
***
Утром, еще до гудка, Павел вскакивает с койки и бежит во двор. Здесь он окатывает плечи, спину и грудь водою из-под крана. Потом, не в силах сдержать себя, весь переполненный, кричит:
— О-го-го!
И ему вторит могучий заводской гудок, а заводскому откликается фабричный, потоньше, и еще, чуть слышно, точно от самого восходящего солнца, идет издалека голос третьего гудка, должно быть, Переяславской мануфактуры.
— Вот это да! — говорит вслух Павел, и лицо его, как зеркало пруда на лужайке, отражает утро.
В тот же самый час, даже в ту же самую минуту просыпается и подымается с постели Антон. Он так же, как Павел, идет во двор, но не окатывает себя из-под крана, а сосредоточенно плещет водой из пригоршни в лицо, чуть-чуть на шею. Ключицы у него остры и желты, как осенний лист; на висках лапчатые морщинки.
И так же, как Павел, он слышит гудки: сначала густой, как струна на виолончели, заводской, потом — потоньше и понежнее — фабричный и совсем неясный — далекой Переяславской мануфактуры.
Голос этого музыкального трио впивается в сердце Антона, он подымает голову к небу, и ему кажется, что ясное, необычайной голубизны небо томимо тою же печалью, что и он, человек.
Потом оба, Антон и Павел, выходят на улицу и шагают к заводу, встречаются, идут вместе.
Павел говорит:
— А у Подсевкиных радио поставили... Вон она, антенна... Знаменито...
Антон, не подымая головы, скрипит:
— Пусть себе забавляются... Мне что!..
И потом скороговоркою, точно боясь, что ему помешают:
— Мы работаем шесть и восемь часов, а пять шестых земли — десять, двенадцать и еще более... Этому конец будет?..
— Было начало, будет и конец, — рассеянно откликается Павел и говорит о своем: —
Надо бы на лужайке установить громкоговоритель... Непременно...
Антон молчит, потом, указывая на чужой двор:
— Вчера тут было голубиное состязание... Голуби Андрона одолели Селифановых голубей. И ты знаешь: Селифан распалился, полез на Андрона с кулаками... Тузили друг друга, пока не разняли... А ведь соседи, друзья...
— Надо бы надавать обоим по загривку! — откликается Павел.
— Ну, брат, кулаков не хватит: их тут, Селифановых, чёртова тьма!..
И скороговоркою, точно боясь, что ему помешают, Антон принимается рассказывать о драках, ссорах и пьянстве на улице. Голос его напоен желчью, но глазки сверкают от удовольствия.
Павел, слушая, только удивляется: почему все это Антон видит, а он, Павел, нет.
— Поменьше бы ты, Антоша, в навозе копался!..
Антон не сразу соображает, о чем говорит ему товарищ, а сообразив, глухо, осторожно расставляя каждое слово, замечает:
— Чистена ты, Павел... Белоручка!..
— Это я-то? Вот так наше вам с кисточкой... Откудова ты?..
Прихмурившись, Антон молчит до самых заводских ворот, а перед тем, как войти сюда, опять говорит:
— У тебя весь склад-лад мечтателя... Понял?
Павел отрицательно дергает головою.
— А, не понимаешь?.. Отвлеченно живешь ты... вот что! У тебя весь белый свет на ять построен... Отчего так? Оттого, что пришел ты в жизнь, чтобы брать, а страдать будут другие...
Павел входит в ворота, улыбчиво раскланивается с табельщиком и уже во дворе, оборачиваясь к Антону, кричит:
— Ты мне этого не пой! Я тебе не баптист, глупостей моральных не люблю! Слышал?..
Антон хмуро и бледно улыбается, он спешит прочь, он знает, что Павел всегда останется правым, как с ним ни спорь.
***

К концу смены, в самые последние минуты Павел покидает свое место и направляется в глубь цеха. Было неодолимое желание отойти от своей стальной упряжи и со стороны взглянуть на все, что сделано им и людьми за шесть часов.
Он идет в развалку и так, будто каждый шаг доставлял ему наслажденье, он даже сочно покрякивает, и потное, припачканное лицо его бездумно, изнутри улыбается, голо посверкивают широкие, жадные зубы. Он как бы проплывал, покачиваясь из стороны в сторону, в волнах чада и напоминал матроса на палубе огромного судна. Ему и самому в эти моменты, когда он бездействовал, а вокруг еще гремел труд, казалось, что огромная и шумная и жаркая, как под солнцем экватора, прокатка движется подобно судну, в неведомую даль. И было ощущение, близкое к азарту: протянуть руки к невидимому рычагу, повернуть и вздыбить весь завод... Но это проносится волною вместе с хмелем вспененной крови и вновь, как бы оседая ему на плечи прочною своею тяжестью, возникает перед Павлом в людском гаме, в глухом неутомимом шорохе, в яром визге заводская явь.
Что может быть сильнее, слаже юности, когда мускулы еще не знают усталости, как бы ни грыз их труд, когда сердце поет гармоникой и хочется положить себе на грудь весь свет — от края до края.
Емким хохотком встречают его люди:
— Вон он, редактор, по приходу пошел!
— Эй, стеннушка, не просчитай, гляди в оба!
Он знает, что голоса эти беззлобны, и охотно, скороговоркой, откликается:
— А ну, пролетарии, нет ли где аварии?.. Выкладывай все сполна, до самого до дна...
Иногда на ходу ему суют в руку бумажонку:
— На, вот, держи... Только, чур, пропечатать...
Между печами, отвернувшись, сжигаемые сухим жаром, идут заготовщики. Напруженные мускулы их, залитые пламенем, похожи на шматки стали, и раскаленная сталь у стана похожа на мускулы.
— Дядя Осип! — посылает Павел вслед широкой, пятнистой от пота, спине. — Сколько нашвартовали?..
Спина проплывает к грохочущему стану, но Павел слышит:
— Столько, да пол столько, да еще столечко...
Он идет дальше, заглядывает в соседний цех.
Цех шуршит, пришептывает, цокает, и этот однотонный шум, похожий на шорох речных волн по гравию, вливается жидким потоком в басовитый гул печей.
— Отпустить... отпустить! — обрушивается сбоку голос мастера, и Павел, признавая Свербякова, загибает в сторону: чужой.
Но ему еще надо к Антону.
Сыростью обдает квасилка, щиплет глаза лимонным духом. Тугою гарью свинца отдают лудильные аппараты, и жаром, сухим и едким, дышит встречу отжигала.
— Эй, Пашка! Чего нюхаешь?..
Проваренное в саже лицо, и зубы —в оскале, как первый снег на земной темени.
— А, Яков! Где твоя заметка?..
— Некогда, Пашка... Жениться задумал.
Антон стоит в сторонке, раскуривает папироску.
— Идешь? нет? — кричит ему Павел.
— Куда это?..
— А в поле!..
— Иди... Мне там делать нечего.
Павел машет рукою и поворачивается назад. Визжат ролики, стучат валы, шорохом волн месит полировочная багровый сумрак, и там, вверху, в переплете стальных балок, в чадных облаках гари, отфыркиваясь, гремит эхом многорукий и упорный, как последний бой, труд человека.
Вдруг вспоминает Павел, что за гарью, над балками, скрытое от людей тысячами тонн железа, светит теперь апрельское солнце.
С жадностью молодого пса, спугиваемого от стойки, оглядывает он в последний раз цех и вдруг, прищёлкивая пальцами, идет вон.
Само собою вырывается из груди растрепанное, хмельное:
Ах, сколько я лесу ни рубила,
Крепче дуба не нашла...
Кто то, свалившись из солнечного перламутра, охватывает его за шею тяжелой рукою, и новый басовитый голос всасывается в голое Павла. Вдвоем:
Ах, сколько я милых ни любила,
Лучше тебя... ах... не нашла...
— Яшка, пусти...
Но он сегодня дурашливый, без хмеля пьяный, этот Яков. Тянет, не выпуская из-под руки, шею Павла,
Ах, сколько я милых ни любила...
А во дворе песню дружно, крутым рывком, подхватывают:
Сухой бы корочкой питалась,
Холодную б воду б я пила...
Так, голосисто выкрикивая, движутся гурьбою люди к воде, под души, а отсюда к заводским воротам. За воротами, над серыми уличками, заборами и палисадниками, бескрайнее, сияет небо, и как-то само собою песня обрывается, но еще долго слышатся там и сям звонкие голоса и смех, и среди этих голосов и этого смеха по-особому, певуче, призывно и почти печально трубят девичьи глотки.
Еще один день закатывается, а впереди — счету им нет, и нет счету — бессчетны дела и дни Павла.
— И откуда берутся азиасты эти?..
— Известно, бабушка: азиаст азиаста плодит!..
Даже Антон улыбается, прислушиваясь к тому, как в бессчетный раз шамкает Павел под старуху.
«Им что? Они жизнь берут, как жену, на плод!»
А впрочем, может быть, он, Антон, не прав... Немочь, худая, барская кровь говорит в нем так.
Улыбка проглочена.
«Дотянуть бы только до вуза, а там... пропади все пропадом...»
В этом мире он прохожий.
***
Владимир Бахметьев. Рисунки: Иван Малютин. Публикуется по журналу «30 дней», № 5 за 1930 год.
Из собрания МИРА коллекция