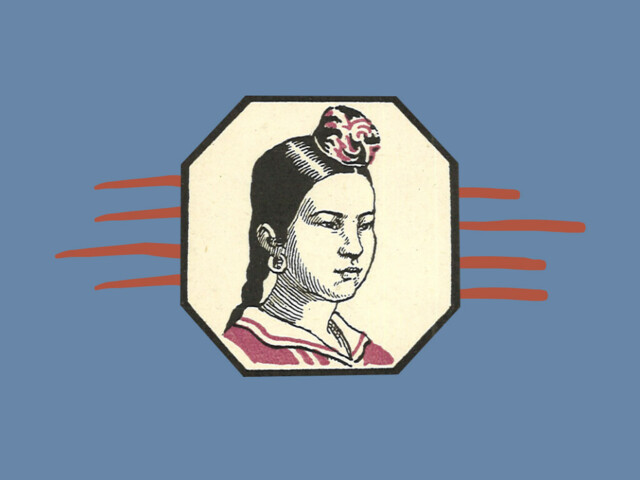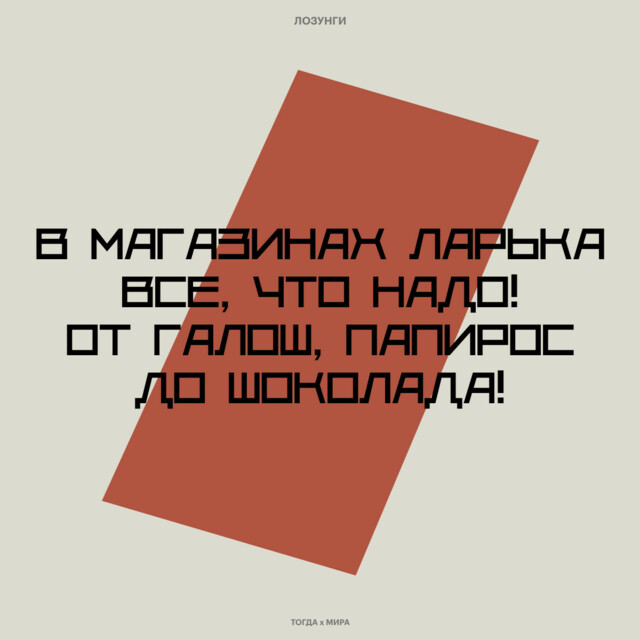«Украденный Рембрандт». Михаил Зуев-Ордынец
1. ЦИРКУЛЬ И ГЛОБУС
Медленно, стараясь продлить удовольствие, доел последний кусок. Тщательно смахнул в горсть с тарелки оставшиеся от хлеба крошки и высыпал их в рот. Обед кончился. Но желудок, в течение двух дней довольствовавшийся жидким чаем и полуфунтом «собачьей радости», взбунтовался. Сорока-копеечный обед не удовлетворял его.
Бирюлев покосился трусливо на официанта. Тот стоял спиной и его лысина, от электрического света, падавшего с потолка, казалась красной и сочной, как хороший бифштекс. Сам стыдясь своего поступка, схватил с соседнего стола кусок черного хлеба и закрывшись газетой, начал есть его, отламывая маленькими кусочками.
Украсть второй кусок не решился, — стыдно и страшно. Бросив газету, вытащил письмо, захватанное и помятое, видимо читанное много раз. Глаза побежали по знакомым уже строкам:
«...Я не удивилась, прочитав в твоем письме, что профессора в восторге от твоей дипломной работы. Я всегда твердо верила и верю в твой талант.
У нас все по-старому. Лева, как я уже писала, поправляется, а я не имею возможности купить ему даже молока. Но не думай, что это жалоба. Нет. Не беспокойся. Пробьемся как-нибудь. Когда же ты сможешь заглянуть к нам?..
Дальше читать не стал. Бессильно опустил руку с письмом. Мысли тупо жевали мозг.
— Денег! где достать денег? Лева должен иметь молоко!...
Перехватив колюче-презрительный взгляд официанта, понял, что надо уходить. Но так не хотелось вылезать снова на мокрую ленинградскую улицу, под противный весенний дождь.
Брякнув стеклом, распахнулась входная дверь, впустив двоих мужчин. Бирюлев, уже поднявшись было, чтобы уйти, снова опустился на стул. Как истинный художник, он быстро улавливал все оригинальное и смешное. А вошедшие стоили того, чтобы рассмотреть их повнимательнее.
Один из них был ростом, почти карлик, гном. Хилая, полудетская фигурка его была обезображена сутулой спиной, которая поднимаясь над плечами, делала его почти горбатым. Но что бросалось сразу же в глаза — это его голова, громадная, с высоким, гладким лбом и широким затылком. И когда карлик снял шляпу, чтобы стряхнуть с нее капли дождя, Бирюлева поразила строго шаровидная форма его головы, удивительно напоминавшая глобус. Отсутствие всякой растительности на черепе и круглые мясистые выбритые щеки — дополняли это сходство. А его тщедушная фигурка казалась лишь подставкой для огромной глобуса-головы.
Второй был полной противоположностью карлику. Ростом выше раза в два, худой и тонкий, он имел коротенький корпус, нелепо торчавший на непомерно длинных и сухих ногах. Голова его маленькая, посаженная на узкие плечи, тоже тянулась кверху, напоминая по форме редьку. И когда он, остановившись в нерешительности в дверях, широко расставил свои непомерно длинные ноги, Бирюлеву показалось, что это готовясь описать круг, растопырился циркуль.
— Пройдемте туда, к окну, — оказал Глобус. И когда они опустились на стулья, почти рядом с Бирюлевым, добавил: — Я открыл здесь прекрасное черное пиво, а кроме того, здесь всегда тихо. Нет этого противного кабацкого шума.
Говорил он с eдвa заметным иностранным акцентом, каким-то осторожным шепотком с прихлебкой и голос его сразу вызвал у Бирюлева необъяснимое чувство глухой неприязни.
— Ну, и давайте пробовать ваше знаменитое пиво, — ответил безукоризненно чисто по-русски Циркуль.
Они сели настолько близко к Бирюлеву, что он мог paссмотреть их теперь подробно. Но Циркуль сидел к нему спиной, и Бирюлев отдал все свое внимание Глобусу.
Высосав с откровенными удовольствием первый фужер пива, Циркуль тоном, каким возобновляют прерванный разговор, обратился к Глобусу:
— Ну, что же дальше? Продолжайте!
Глобус, к удивлению Бирюлева, ответил по-французски. Но говорил он с заметным затруднением, словно мысленно переводил в уме каждое слово, как делают люди не вполне еще овладевшие языком. Благодаря этому Бирюлев также смог почти целиком перевести его ответ.
— Вам уже известно, — говорил Глобус, что даже отрицая возможность позднейших подделок, многие полотна мировой известности до сих пор еще находятся под сомнением, — принадлежат ли они кисти именно тех мастеров, авторство которых этим картинам приписывается. Вспомните хотя бы историю с Луврским пopтpeтом «Кондотьера». Ведь целых три года шел спор, — принадлежит ли он действительно кисти Антонелло де Мессина. Точно такой же спор поднимался, даже не раз, и вокруг интересующей вас картины «Христос» Рембрандта.
— Ну, вот видите! — мотнул головой Циркуль. — Значит мои опасения имеют почву.
— Да! — ответил сурово Глобус. — Но я хочу рассеять ваши опасения. А так как до сих пор я вел с вами честную игру, вы должны мне верить!
Официант уже откровенно выталкивал взглядом Бирюлева. Но он решил, даже ценою открытого скандала дождаться конца этого разговора.
— А кто сказал, что я вам не верю? — обиделся Циркуль и от волнения даже заерзал под столом длинными ногами.
— Мне трудно говорить на этом проклятом французском языке, — сказал Глобус. — Я с удовольствием перешел бы на свой родной язык, — но его не знаете вы. А по русски говорить опасно.. Осторожность никогда не мешает. — И вытерев вспотевший лоб, Глобус по-прежнему спотыкаясь на каждом слове, продолжал: — Дело в том, что полотна Рембрандта особенно часто бывают предметами ожесточенных споров.
— Почему? — искренне удивился Циркуль.
Глобус растянул в насмешливой улыбке тонкий безгубый рот. — Если вы уже пошли по этой дорожке, вам не мешало бы познакомиться, хотя бы элементарно, с историей живописи. Пригодится!
— Ну? — нетерпеливо подался вперед Циркуль. — Ближе к делу!
— Разве вы никогда не слышали, что Рембрандт не раз подделывал самого себя?
— Самого себя? — откинулся ошеломленно на спинку стула Циркуль.
— Да! Ради денег, в погоне за несколькими сотнями флоринов, он подписывал свои именем работы учеников). Но «Христос» — лyчшее создание его гениальной кисти. Здесь он выступил уже как вполне зрелый мастер. Судя только по одному этому полотну, можно вполне согласиться с мнением знатoков, говоривших, что Рембрандт сочетал в себе: «ум Тициана, красоту Рафаэля, грацию Корреджио и колорит Рубенса».
— Bы, как из решета сыплете именами, а о деле ни слова, — прервал его Циркуль. И обиженно добавил: - Я вовсе не нуждаюсь в ваших лекциях по истории живописи.
— Не прерывайте меня, — сухо ответил Глобус. — Я говорю то, что нужно. Всякие споры вокруг «Христа» прекращены. Доказано определенно, что картина эта кисти Рембрандта-ван-Дейка и никого больше!
Оба ненадолго замолчали, а потом снова о чем-то ожесточенно заспорили. Но Бирюлев уже не вслушивался в их разговор.
Его жгло острое, нестерпимое любопытство: — почему Циркуль так сомневается в том, что украденный из московского музея «Христос», действительно принадлежал кисти Рембрандта? И почему Глобус с таким жаром уверяет его в этом? Любительский ли это только спор?
Любопытство Бирюлева начало переходить уже в неясное, неоформившееся еще подозрение, когда его вывел из задумчивости громкий стук кулаком по столу и голос Циркуля, крикнувшего, видимо в забывчивости, по-русски:
— Верю! В Москве похищен действительно Peмбрандт! Факт!
— Конечно! — громко ответил Бирюлев. И в следующий же момент сам удивился. Он совсем не хотел ввязываться в их разговор. Это вышло у него, как-то подсознательно, против желания.
Но было уже поздно. Тяжелый, липкий взгляд пустых мертвых глаз Глобуса, пытливо обшаривал лицо Бирюлева, вызывая у него неприятную брезгливую дрожь.
— А вы разве поняли наш разговор? Вы говорите по-французски? — спросил Глобус, безразличным тоном вопроса прикрывая какое то сложное и сильное чувство.
Чутье, неясный инстинкт подсказали Бирюлеву, что правду надо скрыть. И он деланно простодушно ответил: — Ни слова я не понял. Я по-французски и знаю то только «пардон» да «мерси». А ответил я на последнюю фразу, сказанную по-русски.
Бритое лицо Глобуса распустилось в довольной улыбке.
— Ах, вот как! А вы разве тоже уверены в том, что «Христос» — работа Рембрандта?
— Да кто же теперь в этом сомневается? — улыбнулся снисходительно Бирюлев.
— А почему? — спросил быстро Циркуль, бросив на Бирюлева косой взгляд, не поворачивая головы.
— Видите ли, — начал менторски, невольно копируя своего профессора, Бирюлев, — когда эта картина была еще у Орлова-Давыдова, осматривавшие ее лица заявили, что это не Рембрандт. Граф самодур хотел в бешенстве ее сжечь. Но к счастью не сжег. После этого она нeoднокpaтно подвергалась экспертизам и, наконец, неоспоримо было доказано, что это подлинный Рембрандт. За это говорит также и сумма стоимости картины.
— Какая же это сумма? — спросил Циркуль.
— По довоенной оценке 400 тысяч рублей! — ответил Бирюлев.
— О боже, — простонал Глобус. — 400 тысяч рублей! — повторил он, каким-то особенным, ласкающим, вкрадчивым шепотком и замкнулся в благоговейном молчании.
— А вы, по-видимому, художник? — поинтересовался Циркуль.
— Почти, — улыбнулся застенчиво Бирюлев. — Без пяти минут. В этом году кончаю.
— А ваша фамилия? — оживился вдруг Глобус.
Бирюлев секунду колебался, — не соврать ли опять. Но решившись, назвал свою настоящую фамилию.
— Так, так, — пробарабанил задумчиво по столу пальцами Глобус. — Я интересуюсь молодежью и я слышал о вас, как о подающем большие надежды. Ваша дипломная работа, кажется, «Город»? Большое саженное полотно?
— Да! — не без гордости ответил Бирюлев. — Но откуда вы это знаете?
— Я знаю все, что мне нужно знать, — ответил загадочно Глобус и, повернувшись уже к Циркулю, зашептал с прихлебцем, не скрывая своего возбуждения: — Прекрасная картина, сочная кисть, твердая рука! Наверняка будущая знаменитость! Вообразите, на первом плане типичный русский ландшафт, — чахлый перелесок, какое-то корявое болотце, плешивый бугор. На бугре пастухи, двое: — седой старик и мальчик — ребенок. Оба приложив к глазам козырьками ладони, смотрят пристально вдаль. А вдали, на горизонте, силуэт гиганта-города, — трубы, громады домов, какие-то купола. Солнце село за город и небо над ним горит пожаром. И не поймешь, — то ли это закат, то ли зарево огней гиганта-города. Очень, очень хорошо, — даже причмокнул языком Глобус. — Масса, как это по-русски... ах, да, — настроения!
И вдруг повернувшись круто к Бирюлеву, сказал коротко:
— Продайте вашу картину заграницу.
— Нет, — резко ответил Бирюлев, — Мой «Город» останется в России.
— Дело ваше, — подтянул кисло рот Глобус. — Смотрите не прогадайте.
Во время всего предыдущего разговора Глобус и Циркуль перекидывались быстрыми, короткими взглядами. И Бирюлев, исподтишка следивший за ними, готов был поклясться, что они сигнализировали о чем-то друг другу этими взглядами. Пауза, наступившая после резкого ответа Бирюлева, начала уже переходить в неловкое, гнетущее молчание. Как вдруг Глобус встал и поклонившись Бирюлеву, сказал вежливо:
— Может быть вы окажете честь присесть к нашему столику. Мы хотели бы познакомиться с вами поближе. Нам кажется, что у нас найдется к вам дело.
Официант, забывший недавнюю свою презрительность, услужливо подставил стул. Бирюлев сел и когда церемония знакомства была окончена, он узнал, что карлик носил такую же коротенькую, как и он сам фамилию — Пина, а у Циркуля фамилия оказалась длинной и несуразной — Делажинблай. Теперь же Бирюлев смог более подробно рассмотреть и Циркуля. У него было маленькое сморщенное личико, сквозная редкая бороденка и мокрый насморочный нос. Весь он был какой-то жалкенький и растерянный.
— Извините, но я буду откровенен, — заговорил своим шепотком Пина, — когда все расселись по своим стульям. — Судя по вашему лицу и костюму, вы нуждаетесь в средствах?
Бирюлев бледно улыбнулся: — Да, я сейчас остро нуждаюсь в деньгах. Мой сын серьезно болел и...
— Довольно, — мягко перебил его Пина, — мы можем предложить вам хорошо оплачиваемую работу.
— Какую? — насторожился Бирюлев.
— Конечно, по вашей специальности, — успокаивающе ответил Пина. — Нам нужно снять копию с одной картины.
— Дело подходящее!
— И чем ближе ваша копия будет к оригиналу, тем больше будет оплата.
— Согласен! — обрадованно вскрикнул Бирюлев.
— Погодите, — опять перебил его Пина. — Мы должны выставить еще некоторые условия, на наш взгляд может быть и несколько необычайные.
— А ну-ка? — беззаботно сказал Бирюлев.
— Туда, где вы будете работать, мы отвезем вас с завязанными глазами. Вы не покинете помещения до тех пор, пока не кончите работу, получая все необходимое на месте, но не имея буквально никакого сообщения с внешним миром. А затем мы доставим вас в любое место по вашему указанию. Конечно, незачем добавлять, что лично вам не грозит никакая опасность.
— Но зачем же эти штуки из дешевого романа? Завязывание глаз и т. д.? — забеспокоился Бирюлев.
— Я забыл еще добавить, что чем меньше вы будете задавать вопросов, тем больше вы получите за свою работу, — скупо процедил Пина.
Бирюлев почувствовал неясную тревогу. Стало тоскливо и тяжело, как от предчувствия какого-то несчастья. Задумавшись опустил руку в карман пальто, нащупал письмо жены и словно обжегшись выдернул руку обратно:
— Сколько времени продлится моя работа? — деловито и без всякой уже тревоги спросил он.
Пина задумчиво пососал губу: — Это будет зависеть от вас самих. Но думаю, что никак не больше двух недель.
— Завязывайте глаза, eдем! — громыхнув отодвигаемым стулом решительно поднялся Бирюлев.
II. КОМНАТА СОКРОВИЩ
Судя по возне Делажинблая, дверь имела массу запоров. Щелкал бесчисленное количество раз замок, звенела цепочка, скрипели ржаво крючки. И когда наконец, все стихло, Бирюлев почувствовал на своем плече чью-то руку, а на лице дыхание вплотную подошедшего человека.
И в тот короткий момент, когда падала повязка с глаз Бирюлева, он услышал легкий, как дыхание, шепот Пины.
— Задержите его здесь, пока я... Понимаете?
Моргая уставшими глазами, Бирюлев осмотрелся. Небольшая квадратная комната, скромные серые обои. На стенах масса крупных фотографий.
— Обратите внимание! — ткнул на фотографии пальцем Делажинблай. — Для вас интересно. Снимки лучших мировых полотен. Здесь Лувр, Люксембургский музей, Дрезденская галлерея...
Бирюлев на это улыбнулся иронически, — вспомнив шепот Пины: — «задержите его здесь».
Но Пина уже сам показался в дверях, жестом пригласив Бирюлева пройти.
Следующая комната показалась бесстенной и громадной, как зал музея. Бирюлев, ошеломленный, застыл в дверях. Это была, буквально, комната сокровищ. Глаза разбегались, не зная на чем остановиться, что обласкать сначала любовным и восхищенным взором.
Стены в тяжелых гpомадных коврах. Французские гобелены, перемешались с фламандскими коврами. В промежутках между коврами, картины и без конца картины: — масло, акварель, пастель, темпера. Поверхностного, быстрого взгляда достаточно было для Бирюлева, чтобы убедиться в громадной ценности большинства картин. Элегический левитановский пейзаж висел над утонченным импрессионистом Клодом Монэ, а скорбный пафос гравюр революционерки Кэт Кольвиц причудливо перемешался с неземными ликами нежных врубелевских богородиц. Над картинами арматура из оружия. Варяжский меч, с широким клинком и рукоятью обделанной серебром, перекрещивался с тонкой рапирой галантного французского маркиза; негритянский щит из толстой кожи был соседом рыцарского шлема филигранной чеканки с пенящимся страусовым пером, а на ржавых суданских стрелах, вбитых прямо в стену, висел койн — бубен вогулского шамана. В углах же комнаты, словно стоячие гробы, громоздились деревянные футляры, в щели которых глядел белый мрамор статуй.
Бирюлева охватила буквально чувственная радость от такого обилия красоты, в самых разнообразных ее проявлениях. Он то бросался к картинам, то останавливался перед благородной бронзой и перебегая к столу пергаментов благоговейно гладил старые фолианты, над причудливой накипью строк которых слепили глаза средневековые монахи.
Пина, заметив восторг Бирюлева, широким жестом, как властелин, показывающий свои владения, обвел комнату:
— Что кучи бриллиантов перед этими сокровищами? Слепая шутка слепой природы. А это?.. Монтень сказал: — «Мы не живем, нас уносит». Наша жизнь — это эпизодик на экране. Короткий треск аппарата и... ваш сеанс окончен, уступите место другим. Но человек не умирает совсем, без следа, если он оставил после себя что либо, похожее на это!..
Бирюлев, заметивший дверь, полузакрытую зелеными портьерами, потянул ручку. Не запертая, она подалась.
— Стойте, куда вы? — испуганно крикнул Пина, резко оборвав свою тираду. Бирюлев обернулся yдивленно: — Разве сюда нельзя?
Пина нагнулся к замку и щелкнул два раза ключем. Потрогал, действительно ли заперто и выпрямившись поглядел в упор на Бирюлева:
— Ничего интересного там нет. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату, где вы будете жить и работать. Посмотрите также и картину, с которой вам надо снять копию.
Бирюлев, оскорбленно и непонимающе пожимая плечами, пошел за ним.
В дальнем конце зала он увидел дверь еще в одну комнату. Войдя удивился. Это было настоящее ателье художника. Три громадных окна наверное нe скупясь, лили днем свет.
Пина щелкнул выключателем и под потолком вспыхнули лампы по силе света не уступающие юпитерам.
— А теперь посмотрите картину!
Это был Ушаковский триптих. Бирюлев почувствовал разочарование. Он почему-то вообразил (он еще сам не мог понять — почему?), что работа его будет другая, более трудная. Ему казалась даже, что его заставят снять копию с... Но он не докончил мысль, настолько чудовищна и неправдоподобна она была.
Держась за ручку двери, Пина сказал: — Надеюсь, завтра с утра вы приметесь за работу. А пока, спокойной ночи.
Бирюлев погасил все лампы, оставив лишь матовый ночничек. Опустился в низкое кресло, против картины. Вместо мыслей какой-то дикий ералаш. — Почему там, в пивной, Пина и Делажинблай так ожесточенно спорили о «Христе» Рембрандта? Что значит фраза Пины: «я до сих пор вел с вами честную игру и теперь вы должны мне верить»? Зачем привезли его сюда с завязанными глазами? И, наконец, что это за таинственная комната, в которую не хотел его пустить Пина?
Безусловно, во всем этом есть логика. Все странности сегодняшнего дня чем-то оправданы. Но чем? В чем дело? Где найти кончик, по которому размотается весь этoт клубок?
— Лучше обдумать все это завтра, со свежей головой, — решил Бирюлев. Подошел к кровати, протянул руку, чтобы откинуть одеяло и тут только заметил причудливые формы своего ложа, — высокие спинки из белого клена, веночки и античные профили черного дерева — бесспорно Бидермайер. Эта кровать стоила не малых денег. А вместо одеяла громадный кусок красного бархата, и на нем вышит золотом венецианский лев св. Марка. Золото вышивки уже позеленело от времени и кое-где вылезали из-под него нитки подбивки.
Бирюлев улыбнулся зло: — Надеюсь, хоть подушки и простыни не имеют здесь столетней древности и на них до меня не спал фараон египетский, или по крайней мере Ричард Львиное сердце.
Но улегшись, он укрылся этим странным одеялом не без робости.
III. ТАИНСТВЕННАЯ КАРТИНА
Белая ленинградская ночь окутывала город, седой дымкой стелилась по узким улицам и прозрачной синью залегла на широких площадях.
Но Бирюлев ничего этого не видел. Лежа на широком подоконнике, он жадно глотал свежий вечерний воздух. Прямо перед глазами и влево слепые стены соседних домов, направо ржаво кирпичная громада брандмауэра), снизу маленький дворик, который отсюда, с шестиэтажной высоты казался черным коколодцем, вверху небо. Больше ничего.
— Да, здорово меня закупорил Глобус, — подумал Бирюлев. — Как в тюрьме.
Но если он не видел города, то мог его слышать. Звуки города слитые, спутанные легким вечерним ветерком, мягкими всплесками долетали к нему, на высоту.
Бирюлев вспоминал, перебирая по мелочам, всю неделю уже прожитую здесь, в квартире Глобуса. Ничего интересного. Стараясь поскорей окончить, он каждый день много работал над триптихом. Делажинблай пропадал по целым дням, являясь лишь на ночевку, а Пина, наоборот, выходил лишь затем, чтобы принести из ближайшего ресторана обед Бирюлеву. А затем запирался в той комнате, за зелеными портьерами и просиживал там до вечера.
— Что он там делает? — в тысячный раз спросил сам се6я Бирюлев. И решил: — Видимо у него там особенно ценная коллекция, которую он боится показать малознакомому человеку. А сам он богатый иностранец, маньяк, собиратель редкостей и древностей. Оттого и мое пребывание здесь обставил такими предосторожностями. Боится! А вещи у него есть действительно ценные!
Неслышной серой тенью подполз Пина и сел на подоконник. Бирюлев неприязненно отодвинулся.
— Белой ночью любуетесь? — спросил тихо Пина. — Действительно красиво! Сколько раз я пытался переложить ее на полотно. Но каждый раз бессильно опускалась рука. На какой палитре найдете вы краски для передачи этой удивительной игры полутеней?
— А вы разве тоже художник? — удивился Бирюлев.
— О, каким бы я был художником, если бы... — резко оборвал фразу и уже после паузы добавил: — Я сам себя испортил.
— Чем?
— Не стоит говорить! — махнул рукой Пина. Бирюлев в его ответах почувствовал горечь и скрытую боль. И в первый раз за все знакомство у него появилась к карлику теплая хорошая жалость, которая сменила прежнюю неприязнь. Но Пина сам прогнал это чувство. Повозившись на подоконнике, спросил ядовито:
— А может быть обманываюсь я? Вы быть может не белой ночью любуетесь, а хотите определить, в какой точке города находитесь, чтобы потом...
— К чорту! — соскочил с подоконника Бирюлев.
— Что? — удивился Пина.
— Убирайтесь к чорту! Ведь я дал слово и сдержу eгo, если, конечно, не увижу здесь ничего пpecтyпнoгo. В последнем же случае, буду считать себя свободным от всяких обязательств! Понятно? А ваша вечная подозрительность уже сама по себе крайне подозрительна!
И, резко повернувшись, направился в свою комнату.
Схватил мастихин) и резкими нервными движениями соскреб все писанное за сегодняшний день. Взял палитру, но заметил, что некоторые краски уже израсходованы. Чертыхаясь заелозил на коленях по комнате, разыскивая курант). Как на зло нет нигде. Показалось, что видел его днем в большом зале. Отворил дверь и замер. Дверь таинственной комнаты полуоткрыта и в узкую щель виден свет.
Заколотилось сердце от смелой мысли: — Войду и посмотрю!
Шагнул было, но остановился: — А если там карлик? Э, чорт с ним, будь что будет!
Пересек на цыпочках зал и с силой рванул дверь. Пина, стоявший посредине комнаты, обернулся, испуганным движением вора, пойманного на месте преступления. Затем с подавленным криком набросил холст, который держал в руках, на мольберт, стоявший в дальнем углу комнаты. Бирюлев увидел, что на мольберте стояла картина, что картина эта овальной формы, натянутая на такой же формы подрамник. И больше ничего. Содержание картины разглядеть он не успел.
Пина тяжело дыша, повернулся к Бирюлеву. Лицо его дергалось нервным тиком:
— Что вам нужно? — скрипнул он.
— Мне? — растерялся Бирюлев. И вдруг вспомнил: — Ах, да, вы не взяли случайно курант? Мне нужно приготовить краску.
— Ищите курант там, где он может быть, а не лезьте куда не следует! — крикнул с угрозой карлик и даже взмахнул нервно кулаком.
Бирюлев испуганно попятился до тех пор, пока не очутился в большом зале. Облокотился на деревянный футляр статуи и попробовал разобраться в происшедшем:
— Значит, карлик скрывает в этой комнате картину. Но какую? Почему он не позволил мне даже взглянуть на нее?
В памяти неожиданно всплыл опять все тот же разговор в пивной об украденном Рембрандте. Попробовал связать тот разговор с сегодняшним случаем. Но получилось такое, отчего тряхнул обалдело головой.
— Чорт знает, какая ерунда в голову лезет! До чего можно додуматься! Но ведь «Христос» Рембрандта был почти квадратной формы. А здесь — овал.
И вдруг — словно иголка проколола сердце. Вспомнил строки хроникерского отчета о краже в московском музее Изящных искусств:
«Картина Рембрандта «Христос» была вырезана из рамы в виде овала, неправильной формы...»
IV. РЕМБРАНДТ НАЙДЕН
... — Повторяю, это открытие так ошеломило меня, что я в каком-то непонятном оцепенении простоял наверное полчаса, там, в полутемном зале. И наверное, простоял бы еще столько же, если бы не услышал шагов карлика. Он тоже шел сюда, в зал. Тогда я сорвался и стремительно убежал в свою комнату.
Бирюлев замолчал и сделал резкое движение, желая лечь набок но побледнел внезапно и с легким стоном беспомощно откинулся снова на спину.
— Борис, что ты делаешь? — забеспокоился Говоров. — Тебе же запрещено самому ворочаться. Швы могут разойтись.
Подошедшая к койке сестра милосердия осторожно перевернула Бирюлева на бок, так что он лежал теперь лицом к Говорову, и заботливо оправляла сбившиеся подушки. Бирюлев, молча, взглядом поблагодарил ее.
— Теперь бояться нечего — улыбнулся он успокаивающе Говорову, — теперь я вне опасности. А говорят, я был на волоске от того, чтобы... Понимаешь? Так как выстрел был сделан сверху вниз, то пуля продырявила меня чуть ли не от плеча, до поясницы. Наискось!
Бирюлев снова замолчал. Но Говоров, склонившийся над его изголовьем, сказал с откровенным любопытством:
— Если ты, Борис, не очень устал, я бы попросил тебя докончить твою историю. Крайне интересно.
— Ах, да, да! Извини. — И вдруг, улыбнувшись насмешливо, Бирюлев сказал:
— Но ты даешь мне слово, что эта история не будет использована тобой, как тема для твоего очередного рассказа. Хорошо? А то ведь я знаю вас, писателей. Теперь мне осталось уже немногое досказать тебе, дело идет к концу. После того случая, о котором я только что рассказал тебе, когда я, увидав в комнате у Пины овальную картину, решил, что это украденный из московского музея Рембрандт, прошло еще три дня. А на четвертый день и разыгрались события, которые привели меня на операционный стол, а затем и на эту больничную койку. Все эти три дня какая-то необъяснимая тоска давила меня, яркое, определенное предчувствие надвигающегося несчастья причиняло мне буквально физическое страдание. Чувство это было настолько сложным, что я даже сейчас не могу разобраться в нем. Основным в нем была, пожалуй, злоба на этих двух негодяев, которые выкрали у нас мировую художественную ценность с целью переправить ее заграницу.
Бирюлев замолчал и провел рукой по вспотевшему лбу. Говоров откинул с его груди нагревшееся одеяло.
— Помню, как сейчас, была уже ночь, когда я взялся за ручку двери, чтобы идти к карлику. В окно я видел, как ущербленная луна свесилась над городом и поила седую полумглу ленинградской белой ночи своим желтым, больным светом. Войдя в зал сокровищ (теперь то я знаю, какие это были сокровища, но тогда я называл его буквально так), я остановился в нерешительности. Где искать карлика? И дома ли он? И тут то я услышал голоса в той таинственной комнате. Говорили Пина и Делажинблай. Но слов я разобрать не мог, так как разговаривали они очень тихо. Я вообще против подслушивания, — это отвратительно. Но в данном случае миндальничать не приходилось. Против подлецов нужно бороться их же оружием, — подлостью. И я, подкравшись на цыпочках к двери таинственной комнаты, приложил ухо к замочной скважине. Они разговаривали опять пофранцузски, и я слышал почти все. Конечно, теперь я не помню буквуально их диалога, но постараюсь с возможной точностью передать его тебе.
— Ну что, длинноногий осел, — говарил Пина, — вы и теперь еще сомневаетесь, что мы хорошо заработаем?
Делажинблай пробормотал в ответ что-то неясное.
— Ставлю тысячи против пуговицы от любых штанов, — продолжал карлик (он любил образные выражения), — что мы приобретем состояние на этом деле. Да глядите же, ведь это Рембрандт, это его кисть, гениального сына мельника, непревзойденного мага светотени, волшебника освещения!
— Да, это Рембрандт, — выдавил Делажинблай. — И как только удалось вам это обтяпать? Вы гений, Пина!
Карлик рассмеялся гаденьким смешком и ответил что-то, чего я опять не разобрал. А затем, повысив голос, продолжал: — И не думайте, что это пустяк! Вы же знаете, сколько времени потратил я на это. Но мое дело кончено, теперь очередь за вами. Не забывайте, мой дорогой, что во всей Америке нет ни одного Рембрандта. В этом направлении и действуйте!
— А вы думаете, это тоже будет пустяк? — ворчливо отозвался Делажинблай. — Повозиться придется.
— Это ваше дело, — с заметным раздражением сказал Пина, — надеюсь, вы не струсите, не откажетесь теперь, когда полдела уже сделано. И начинайте немедленно. Поведение этого идиота Бирюлева начинает меня беспокоить. Он, видимо, уже что-то подозревает.
— Ты, конечно, понимаешь, что я пережил, стоя у двери и слушая разговор этих жуликов. Главное, я наконец, вполне уверился, что таинственная картина есть Рембрандт, выкраденный из московского музея. Я был близок к тому, чтобы ворваться в комнату и избить их. Не без труда подавил я в себе это истерическое желание.
По длительному молчанию я понял, что разговор их едва ли возобновится и что безопаснее будет уйти. Боясь даже дыханием обнаружить себя, я разогнулся и так же на цыпочках пошел к своей комнате. Я был уже на середине зала, когда услышал звук отворившейся двери. Рванулся было вперед, но остановился. Щелкнул выключатель и яркий свет затопил зал. Повернулся торопливо и по одному только выражению их лиц убедился, что поза, в которой они меня застали — спиной к ним, показалась им подозрительной. Только круглый идиот не понял бы, что я был на пути от дверей той комнаты, в которой они разговаривали.
— Что вы здесь делаете? — спросил Пина еще с места. А затем подбежал ко мне и выкрикнул: — Подслушиваете?
В вопросе его я почувствовал злобу и страх. Но произнес он его удивительно легко и беззаботно, без нажима, словно закутал ватой всю остроту вопроса. Дальше события развертывались с умопомрачительной быстротой.
V. НАД БЕЗДНОЙ
— Очутившись у себя в комнате, в относительной безопасности, я начал с того, что полоснул мастихином по своей копии. Я не хотел, чтобы какая бы то ни было моя работа попала в руки этих воров. Затем с размаху брякнулся на постель. Лежал и слушал перебранку Пины и Делажинблая. Разговор у них был, видимо, крупный. По интонациям можно было догадаться, что Пина нападал, а Делажинблай защищался.
Но вдруг разговор оборвался, после одного особенно резкого выкрика Пины. Затем Делажинблай тяжело прошагал к выходной двери, погромыхал бесчисленными запорами и вышел. А я по-прежнему лежал и прислушивался теперь уже к беспокойным, нервным шагам карлика, бегавшего по залу. Так прошло наверное немало времени. Белая ночь уходила, и сменивший ее розовый рассвет уже заглядывал холодно-внимательно в квадраты окон. Я, повидимому, забылся в легкой дреме и пришел в себя от звука ворочащейся дверной ручки. Поглядел, — ручка действительно крутилась. Это был Пина. Я слышал даже его тяжелое дыхание за дверью. Убедившись, что попасть ко мне невозможно, он громко выругался и тоже затопал к выходной двери. Дверь хлопнула, так что по залу раскатилось гулкое эхо, сухо щелкнул дважды ключ и все смолкло. я был один в квартире.
И тотчас же я вскочил с постели, готовый действовать. Как именно действовать — я еще не знал.
Я пулей вылетел в зал сокровищ, двумя прыжками перемахнул его и, подлетев к дверям таинственной комнаты, сорвал для чего-то зеленые портьеры. Вообще из всех дальнейших моих действий лишь половина была разумна, так как я находился в состоянии какой-то невменяемости полубезумия и руководил мной в большинстве звериный инстинкт, а не холодный разум. Сорвав портьеры, дернул дверь. Конечно, заперто. Безумная ярость обожгла сердце, и я начал дубасить в дверь кулаками. Боль от ударов немного охладила меня. Я понял, что кулаками мне дверь не выбить, для этого нужно что-то другое. Тут взгляд мой упал на варяжский меч, помнишь, который я описал тебе с такими подробностями. Сорвал его со стены, выдернул из ножен, воткнул конец клинка в паз двери и с силой нажал на рукоятку. Видимо, невменяемое мое состояние дало мне необыкновенную силу. Дверь не выдержала и первого нажима. Язычок замка вырвал боковую планку, и дверь распахнулась с такой силой, что ударилась даже об стену. Все также, с мечом, словно древний викинг в осажденную крепость, ворвался я в комнату, подбежал к мольберту и сдернул полотно.
Дальнейшие мои поступки носят уже следы некоторой системы. Я осторожно снял картину с подрамника, скатал ее в трубку, конечно, краской наружу. закутал в полотно, которым она была прикрыта, и, отодрав от диванной обивки тесемку, аккуратно обвязал. Теперь можно было уходить. Я сделал уже шаг вперед, к двери, но тотчас же попятился на три шага назад. В дверях стоял карлик. Когда он вернулся, я не слышал, сколько времени он здесь стоял, — тоже не знаю. Возможно, что он видел всю мою возню с картиной. Но и без этого взломанная дверь, пустой мольберт и голый подрамник, валявшийся на полу, достаточно рассказали ему, что произошло здесь за время его отсутствия.
Прижав картину к груди, как родное дитя, я сказал коротко и угрожающе: — Пустите меня!
— Нет! — прошепелявил он. — Вы безмозглый идиот! Сейчас же верните мне картину.
— Нет! — тоже ответил я. И, не сдержавшись, начал кричать. Я кричал, кажется, о том, что он вор, который хочет обокрасть мою страну, но что я не допущу этого, что я скорее убью и его и Делажинблая, убью всех без различия, кто будет мне мешать спасти картину. И так далее, в этом роде. Все такой же высокопарный вздор. Но поверь, я был тогда искренен. А Пина молчал, видимо ожидая, когда мне самому надоест это бесцельное оранье. Лишь глаза его от злости выцветали, делались пустыми, так что зрачки их превратились в еле заметные точечки, меньше булавочной головки. Улучив момент, когда я переводил дыхание после одной, особенно длинной и горячей фразы, он опять повторил:
— Ай, дурак, ай, какой дурак! Давайте картину! Ну? Живо!
Повелительный его тон подействовал на меня, как пощечина. Опять каруселью завертелась голова и опять на глаза мне попал этот варяжский меч, валявшийся на полу. Не помня себя от ярости, я поднял его, уцепился за ручку обеими руками и, занеся высоко над головой, ринулся к карлику.
— ...Здесь, в больнице, мучаясь по ночам от бессонницы, я часто раздумываю над этим моментом, задаю себе вопрос — ударил бы я тогда карлика мечом или нет? И ответ бывает всегда один — да, ударил бы! Я размозжил бы тяжелым клинком эту ненавистную голову-глобус. Но, видно, не судьба быть мне убийцей. Пина с ловкостью и быстротой, несвойственной, казалось бы, его тщедушному тельцу, выскользнул из комнаты, прихлопнув за собой дверь. Преследовать его я не решился. В первый момент я порадовался, что так легко и быстро избавился хоть на время от своего врага. Но тотчас, вслед за этим, я струхнул порядком. Дверь из комнаты одна, а за дверью Пина, а у Пины револьвер. Что делать? Ясно было с первого взгляда, что кроме двери, за которой ждал меня Пина, выход из комнаты был только один, — окно. Надо было попробовать выбраться через окно. Я схватил картину, связал петлей концы тесьмы и повесил ее себе на шею. Затем подбежал к окну и открыл его. Звуки просыпающегося города, особенно четкие и бодрые, какими они бывают только ранним и ясным утром, ворвались в комнату. Встав коленями на подоконник, я выглянул из окна. И тотчас же отшатнулся. Ведь шестой этаж не шутка! Есть от чего закружиться голове!
Бирюлев замолчал, вытянул из-под одеяла руку и положил ее на колени Говорова, как бы приглашая его быть сейчас особенно внимательным.
— Ты уже знаешь наверное, что некоторые люди страдают необъяснимым страхом перед каким-нибудь пустяком. Одни, например, до смешного боятся мышей или лягушек, другие не переносят воды, третьи испытывают страх перед большими, открытыми пространствами или темными комнатами. Я думаю, что это нервное. Я же еще с детства панически боюсь высоты. Я думаю, что переживания тонущего человека, ищущего соломинку, за которую можно ухватиться, все же ничто по сравнению с чувством падения. Вот точно такое Чувство охватило меня, когда я выглянул из окна шестого этажа. Но я все-таки успел разглядеть, что от подоконника, на уровне его, вправо и влево идут сплошные выступы, шириной в один кирпич, то-есть не шире ладони взрослого человека. Опорой для одной ноги эти выступы могли бы служить, но две ноги рядом на них не встали бы. Над этим выступом, на высоте человеческого роста, шел сплошной каменный орнамент, и если нижний выступ мог служить опорой для ног, то за рельеф орнамента можно было цепляться руками, поддерживая равновесие. Но особенно меня обрадовало то, что влево или через два окна, не считая моего, я увидел пожарную железную лестницу, а вправо тоже точно такую же лестницу, но на много дальше, при чем в эту сторону шла глухая стена, без окон. Лестницы эти подходили к стене дома под таким острым углом, что до них от стены можно было достать, не вытягивая руку даже на всю длину.
— ...Труден всегда только первый шаг. Поставив ногу на выступ, я вцепился пальцами обеих рук в выпуклости орнамента, подтянулся и, перенеся на выступ вторую ногу, уже буквально повис над бездной. Я очень бледно и приблизительно передам тебе ощущение этого момента, если скажу, что и ты испытывал нечто похожее при взлете на очень высоких качелях. Так же зашумело в ушах, подкатило под сердце, захватив дыхание, и на короткий миг почти парализовало ноги и руки. Но это было только в первый момент. А затем, каждое новое удачное движение возвращало мне бодрость и даже какую-то самонадеянную дерзость. Я благополучно добрался до первого окна и теперь мне оставалось пройти еще аршина два, добраться до подоконника второго окна, а с него можно было дотянуться и до лестницы. Я уже ликовал. Сделал два шага, напружинил ногу для третьего и замер от какого-то непонятного шума, раздавшегося недалеко от меня. Лишь увидав высунувшуюся наружу физиономию карлика, я понял, что это был дребезг открываемой рамы. Это было так неожиданно и так страшно, что мне показалось, будто я сплю. Действительно, такое чувство можно пережить только в кошмарном сне, после которого просыпаешься, обливаясь потом, с остановившимся сердцем. Ведь до лестницы было буквально рукой подать, а теперь я должен был или сдаться на милость карлика, или возвращаться обратно. Но обратный путь я должен бы был проделать пятясь задом, так как я не мог повернуться ни на выступе, ни на узком подоконнике уже пройденного окна. Поворот я мог сделать лишь на своем окне, открытом.
— Довольно дурить! Лезьте сюда! — сказал Пина тоном небрежным и снисходительным, каким взрослые останавливают шалости ребенка. И это был с его стороны неверный ход. Обратись он ко мне с большим уважением, покажи он хотя капельку удивления перед моим безумным поступком, — не знаю, как бы поступил я. Но этот небрежный тон оскорбил во мне мужчину, и мной овладело бешенство, какое испытываешь во время жестокой схватки. Я, желая при плохой игре делать хорошую мину, попытался улыбнуться презрительно. Не знаю, получилась ли у меня именно такая улыбка, но лучшим ответом ему было то, что я начал медленно двигаться назад. На лице карлика отразилось недоумение, а затем с молниеносной быстротой промелькнуло выражение полнейшей растерянности. Но наверное вид у меня был настолько жалкий, что он быстро успокоился и даже развалился поудобнее на подоконнике, словно собрался наслаждаться интересным зрелищем. Во взгляде его я заметил уже полное спокойствие и уверенность, но в глубине острых зрачков притаилось какое-то затаенное ожидание. И этот взгляд раскрыл мне его душу. в этом взгляде он выплеснул наружу свои мысли, во всей их циничной откровенности. Я понял о чем думал карлик. Он был уверен, что я упаду, он ждал лишь, когда именно это произойдет и отчего — соскользнет ли моя нога, или сорвутся руки?
— Не смотрите так! — умоляюще крикнул я. Но карлик лишь засопел насмешливо носом и перевел взгляд на мои руки, словно оценивая, сколько мгновений еще продержат они мое тело. Я закрыл глаза, стараясь собрать остатки воли. Но от этого стало еще хуже. Мне показалось, что я уже падаю. Я болезненно почувствовал вес своего тела, стремящегося неудержимо вниз. Это чувство непонятно для нас, пока мы двигаемся по твердой земле. Карлику в этот момент достаточно было вскрикнуть громче обыкновенного или просто хлопнуть в ладоши, и я сорвался бы.
— Ага, ты не ожидал этого? — подумал я, наполняясь злобной радостью. Ведь это начинало походить уже на какое-то состязание лично между нами двумя.
Поправив на шее картину, чтобы она мне не мешала, я повернулся и снова вскарабкался на выступ, направляясь в сторону другой лестницы. Я знал, что теперь мне карлик не помешает, и потому шел спокойно, переставляя ноги с уверенностью заправского канатоходца.
— Стой, я стреляю! — этот крик карлика я услышал ровно на полпути. А затем, словно подкрепляя это приказание, до меня долетел лязг каретки автоматического револьвера, посылающей пулю в ствол. Я задержался лишь на миг, а затем опять чуть ли не побежал, быстро перебирая руками и ногами. Этот остаток своего пути я проделал, чувствуя все время спиной, если можно так выразиться, холод смерти. Но почему он тогда не выстрелил, я не знаю. Упустил великолепный момент!
— Стреляю! Стой! — услышал я второй крик карлика, в котором плескались уже испуг и отчаяние. Я понял, почему он испугался. Ведь я был уже около лестницы. Оттолкнувшись с силой, я поймал ее перекладину и с быстротой обезьяны начал спускаться вниз. Тут я снова в последний раз увидел Глобуса, его лицо, обезображенное злобой, и дуло револьвера, направленное на меня. Я спускался вниз, черная точка дула опускалась вместе со мной. Карлик, видимо, до последнего момента надеялся, что я испугаюсь и остановлюсь. А я мысленно молил: «Стреляй же, стреляй скорей!», так как ожидание выстрела было крайне мучительным. И он выстрелил, но поздно, когда я был уже между вторым и первым этажом. Словно шило ударило меня в грудь, чуть ниже ключицы и сорвало меня с лестницы. Падая, я потерял сознание и увидел какой-то пламенный круг, который расширялся и расширялся, словно удивленно открывающийся взгляд. Мне казалось, что это продолжается бесконечно долго, а ведь это был только один миг, пока я от удара об землю не пришел снова в себя. Дальнейшее я помню несвязно, какими-то отрывками, словно я смотрел склеенные как попало клочки фильма. Зажимая рукой простреленную грудь, я выбежал со двора на улицу, увидав редких утренних прохожих, крикнул и снова упал. Говорят, что я кричал: «Рембрандт! Рембрандт!» Затем помню тряску в авто скорой помощи и колющую боль раны. Сознание вернулось ко мне на миг, когда я лежал на операционном столе. Особенно ярко запомнились вымытые до-красна руки хирурга и острый блеск скальпеля. Но хлороформ опять утащил меня в какую-то гудящую, темную бездну, и пришел я в себя окончательно уже на этой койке. Вот и все! — и Бирюлев устало откинулся на подушки.
— Как все? — привскочил даже Говоров. — Значит, ты действительно спас Рембрандта?
Бирюлев улыбнулся горько, одними уголками губ. — Картина, из-за которой я лазил по стенам на высоте шестого этажа, была таким же Рембрандтом, как любая из ленинградских вывесок.
— Но как же?..
— Слушай! Пина и Делажинблай оказались отъявленными мерзавцами. Пина, — человек неопределенной национальности, но выдававший себя за француза. Делажинблай — коренной русский, эмигрант, но каким-то образом втершийся во французское подданство и переменивший благодаря этому же фамилию. Они встретились в Париже, куда удрал от революции Делажинблай. Первые два года они занимались совместно различными мелкими мошенничествами, а затем избрали основной профессией подделывание редких предметов старины и искусства. Главную роль в этом деле играл Пина. — Он кончил когда-то блестяще французскую Академию Художеств, знал толк в искусстве и см мог гениально копировать произведения живописи. Особенно ему удавались копии старых мастеров. Он умел придавать им те характерные детали, которые и служат решающим признаком при определении мастера. На этих копиях он загубил свой настоящий недюжинный талант, и теперь тебе понятен мой разговор с Пиной ночью, на подоконнике, когда я узнал в первый раз, что он тоже художник. Дела их вначале шли блестяще. Они надули не один десяток американских свиных и прочих королей. Но на каком-то пустяке попались. Американцы взбесились, назревал большой скандал. Крупной взяткой они избавились от лап полиции и пo предложению Делажинблая перенесли свою штаб-квартиру в Россию. Отсюда они переправляли за границу дешевые копии, выдавая их за редкости, перекупленные якобы у разорившихся русских аристократов. Но они надували не только заграницу, они и многим нашим клубам всучили массу дряни. Их давно разыскивали, но не могли открыть, так как, обжегшись раз, они теперь уже вели дело крайне осторожно. В эту штаб-квартиру жуликов и попал я таким романическим образом, с завязанными глазами. Им нужно было спешно получить копию с Ушаковского триптиха, а Пина в это время был занят другой спешной и крайне трудной работой. Он подделывал «Христа» Рембрандта. Да, да, успокойся, подделывал Рембрандта! Когда он узнал о краже из московского музея, в его воровской голове тотчас же созрел смелый план. Пользуясь крупными фотографиями, другими менее удачными копиями, пустив в ход свою гениальную зрительную память, он блестяще справился с задачей и написал двойник «Христа» Рембрандта. Эту-то копию он и хотел переправить в Америку, выдав ее за подлинник, якобы, выкраденный из музея в Москве...
— Понимаю! — вскрикнул Говоров.
— Эту-то мазню Пины, а не гениальное произведение Рембрандта, и спасал я, рискуя жизнью... Погоди, я знаю, что ты еще хочешь спросить: поймали ли Пину и Делажинблая? Нет, они скрылись. Но квартиру их разыскали, и ты можешь еще осмотреть «комнату сокровищ»; по моей просьбе, тебя пустят. Ты увидишь редкие ковры, пергаменты, стильную бронзу, старинное оружие и полотна знаменитостей. Но не доверяй своим глазам, все это только искусные подделки...
***
Михаил Зуев-Ордынец. Рисунки: Юргенс (?). Публикуется по журналу «Вокруг света», № 9 и № 10 за 1928 год.
Из собрания МИРА коллекция