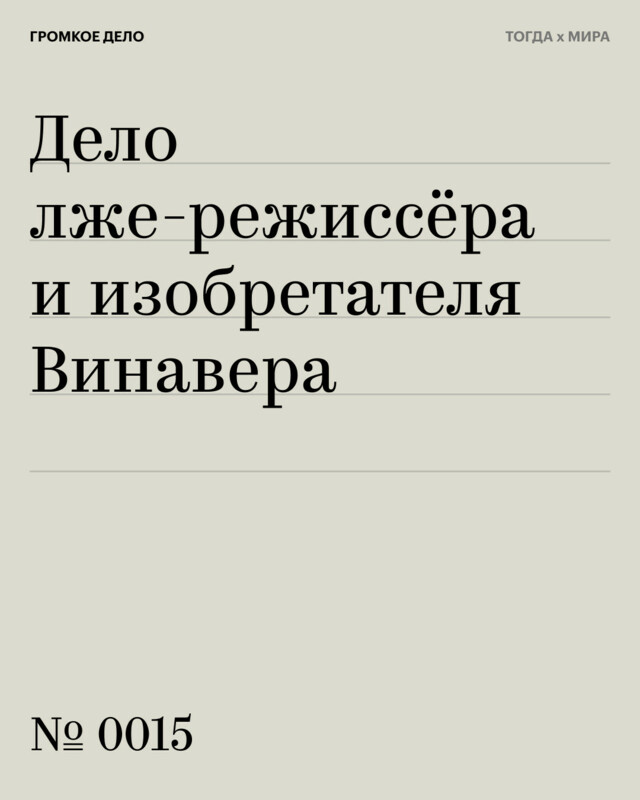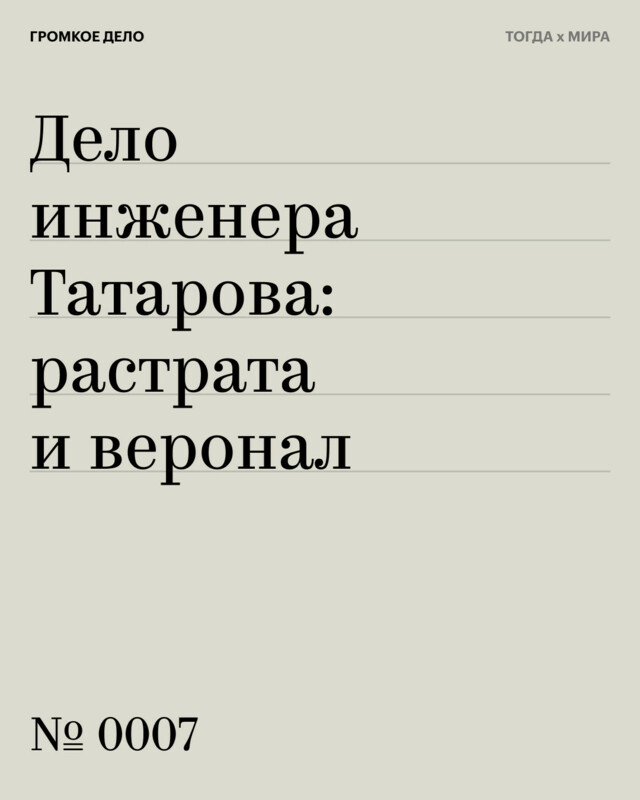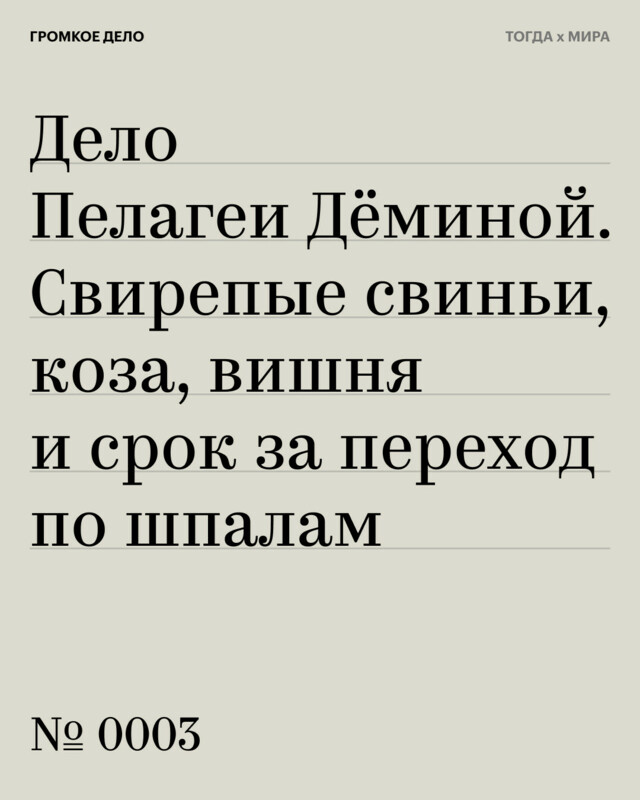Ночь в селе Рыбацком. Дело о таинственном исчезновении Маруси Корешовой
Криминальная хроника на страницах периодики 1920-х годов
Нева молчит...
Деловито спешат невские воды к морю. Там, в море, простор, а здесь, зажатым в берега, им тесно. Они спешат, попутно рассказывая берегам о пути, который они прошли, о тех, кто нашел в них — вольную или невольную — смерть...
Не людям, а берегам рассказывают они об этом. И людям их сказа не понять. Говорливая и суетливая Нева нам ничего рассказать не может, потому что мы, люди суши, говорим с нею на разных языках. Для нас—Нева молчит. Если бы понятен был нам язык Невы, может быть, узнали бы мы о том, что произошло над ее водами в ту веселую, буйную, пьяную, разбухшую от звуков разухабистой гармоники ночь, когда молодая Маруся Корешова была сброшена — или сбросилась? — с мостков жизни.
Может быть, узнали бы мы о том, кому посылала в эту ночь Маруся свои упреки и проклятья — убийцам, отрезавшим ее, как свежий ломоть хлеба, от жизни — или... отцу, сделавшему ее существование невыносимым?..
Но... Нева молчит. Для нас она, знающая, не говорит. А те, что говорят, — «ничего не знают» ...
Село Рыбацкое
Воды Невы, катясь к морю, заходят в гости и в село Рыбацкое.
Осоков, гулявший с Марусей Корешовой говорит, что, провожая ее из клуба домой, он обычно шел с ней не по стороне, где дом ее родителей, а по противоположной стороне. Почему? Потому что...
— Панель — только по одну сторону улицы, по другую сторону панели нет.
Село Рыбацкое — село с панелью по одну только сторону.
Как Нева — резервуар для моря, так село это — резервуар для завода. Отсюда черпает завод «Большевик» рабочую силу здесь; в своих избенках, черпают рабочие силу для трудовых дней.
Панель — завод. И другая сторона—рыхлая, поросшая травою сельская земля —Рыбацкое.
Панель — рабочий клуб, сад «Спартак», комитет партии и комитет комсомола; «беспанельная» сторона — церковь, свадьба с самогоном, драки и хулиганство, «Домострой» в семейных отношениях, неусыпный глаз отца —для незамужней дочери и неустанная «карающая десница» мужа—для жены. И оттого, что — «панель — только, по одну сторону», — людям тесно идти по ней, и в тесноте путают своих и чужих, и от тесноты сворачивают в переулки, в темноту, к Неве, потому что там — простор.
Но в Неве — и глубина, и дно, покрытое скользким, холодным илом, и тайны утопленных и утопившихся...
Панель с выбоинами
Завод — панель. Но в этой панели — выбоины. Ей нужен ремонт, ее нужно подчистить, подмести, залить цементом щели.
В заводе лодку без пропуска взять нельзя. Панель. Но в панели щель: если попросить сторожа, хорошо попросить пропустит.
На пропуске — имя. Панель. Но если один рабочий другому пропуск передаст — не беда: свои люди — сочтутся, ребята хорошие...
Брали хорошие ребята лодку в тот вечер. Кто брал? Пропуск — на имя Гаврилова. Но ведь в панели щель — разве означает это, что лодку брал именно Гаврилов?
А ключ, которым отпирался замок. от лодочной цепи, — ведь это — ключ к разгадке тайны смерти Маруси! Ведь, если б знать, кто отпирал и запирал замок, — может, кой-кому не помогло бы отпирательство: «я-де ничего не знаю» ...
«На нашей улице праздник» ...
Однообразно, как течение невских вод, как заводская повседневная работа, шла жизнь в Рыбацком. Люди рождались, сходились, умирали...
Но и будни загораются порою огнями праздника. Пусть на один день рабочий Бертов и невеста его прервали свои обычные занятия, — в этот день они сошлись для совместной жизни, и это событие, чреватое радостями, а больше заботами, они отпраздновали.
И вместе с ними праздновало Рыбацкое. И не только Рыбацкое, но и молодежь соседних «сел с панелью по одну сторону» — Мурзинки, Александровского, Смоленского...
На свадьбе побогаче — скрипки, флейта, контрабас. Оркестр. На свадьбе рабочего Бертова тоже играл «оркестр» —баян. Оркестр в составе двух «оркестрантов» — Павла Иванова и Гаврилова, того самого, который со «своей» скамьи подсудимых мечтательно глядит в окно на серо-синее небо...
Истомно потягивались гармонии, до истомы плясали под звуки их гости—девушки и парни. С антрактами в пятнадцать минут, потому — некогда, ночь коротка, надо успеть натанцеваться!..
Танцевала и Маруся Корешова.
Маруся Корешова
Если бы Мария Корешова прожила обычную «рыбацкую» жизнь, она вошла бы в память знавших ее, как простая девушка и женщина, работница и жена, соседка и мать.
Но воды Невы, в которые она — по своей или по чужой воле — нырнула на семь суток, —эти воды смыли с нее привычные краски, и сейчас она уже окружена газом загадочности.
Была-ли она красива? Пожалуй. Умна? Кажется. Грустна? Может быть.
Эта — пожалуй, красивая, кажется, умная, может быть, грустная девушка, — была-ли она девушкой или уже познала все тайны женщины?
Экспертиза говорит: она была женщиной.
Но ведь эксперты, исследовавшие тело через неделю после того, как оно стало мертвым, могли ошибиться? Но ведь мать могла не знать?
В узком переулке
Уже гости Бертова, наслушавшись разухабистых гармоний гармоники, напившись самогону, натанцевавшись до тошноты, успели подраться и еще раз напиться; уже сам Бертов дошел до такой степени «веселости», что не замечал, подле него ли невеста или вышла; уже на смену вечерней заре спешила заря дневная, когда на свадьбе стало одной гостьей меньше: ушла Маруся.
Почему ушла она от танцев, от ухаживанья, столь сладкого девичьему сердцу, от песен и веселья? Действительно-ли она, по мысли одного из защитников, здесь, среди веселья, почувствовала всю тяжесть невеселой своей жизни и решила эту жизнь утопить в Неве или — захотела большей радости и пошла в узкий переулок на зов людей, которые ждали ее в белой лодке, в том месте, по загадочному выражению ее подруги, Насти Дедовой:
— Где села, там и приплыла...
И если на зов людей, а не на зов воды, ушла она, если это ее, по свидетельству суровой и упрямой девочки, Прасковьи Корешовой, окликали:
— Маруся, ты?
То... кто окликнул?
Мечтательный Гаврилов и внимательный Батылин
Вот сидят на скамье подсудимых те, на которых, как на виновников Марусиной гибели, остановилась людская молва.
Гаврилов. Тот, на чье имя был выдан пропуск, тот, кто мог получить белую лодку.
Ворот рубахи его расшит голубыми и желтыми цветочками. Он сидит на скамье и часто разводит руками, не подымая их: кажется, и здесь, как и на свадьбе в ту ночь, он играет на своем баяне...
У него впалая грудь и мечтательные глаза. Милые, чистые — как цветочки на рубахе. Эти глаза глядят, не видя, в даль, как это часто бывает у музыкантов, когда они, играя, вслушиваются в речь своего инструмента.
А может быть... может быть, он видит там, вдали, барахтающуюся в воде Марусю?.. Ведь, он уходил с ней в ту ночь! Ведь, пропуск был на его имя!
Тогда — отчего так чисты его глаза?
Отчего, когда он слушает показания свидетелей, нет в нем такого напряженного внимания, как — у Батылина?..
Батылин — сосед его по скамье. Темные глаза к чему-то внимательно приглядываются. Когда председательствующий указывает ему на противоречие в показаниях, он заявляет, что иначе, чем здесь, на суде — не показывал.
— Так, — говорит он, — мы и раньше говорили...
Почему — мы? Или он заранее с кем-то условился о том, как показывать?
Случайная обмолвка? Такая обмолвка; какой-у Николаева не может быть?
Николаев
Да, у этого, как будто небрежно говорящего, как будто не обдумывающего своих слов Николаева — обмолвки быть не может!
Он, вместе с Батылиным, в ту ночь катался на лодке, на белой лодке, взятой по пропуску Гаврилова. За его спиной, как и за спиной Батылина, чаще всего шептались старухи:
— Марусин погубитель!
Он, вместе с Батылиным, как говорят, пел «Вечную память», на месте гибели Маруси...
У него волосы, гладко причесанные, опущены низко на лоб: словно ими, как вторым занавесом, прикрывает он мысли, бродящие за белым занавесом лба...
Когда он говорит, кажется, что он читает по бумажке. Он не говорит:
— Пришел на свадьбу. Видел там Марусю.
Но:
— Придя на свадьбу, я видел Марусю...
Он знает порядок. Взор его все время устремлен на судей, и когда допрашивает прокурор или защитник, отвечает, глядя вперед себя.
Он чуть-чуть развязен, и порою кажется, что развязность эта — тоже занавес. То почешет за ухом, то прикусит губу, то подопрет щеку рукой...
Развязность — внешняя — и в словах его. Он не говорит. — Достал папиросу.
Но, словно в беседе с товарищами за бутылкой пива:
— Стрельнул покурить...
Что-же это — беспечность человека с чистой совестью или — глубокий карман, в который прячут окровавленные руки?
Недостающий свидетель
Все время кажется, что невская вода, удушившая Марусю, заполнила рты и свидетелей.
С трудом удается вырвать одно-два слова. Порою заседания Суда превращаются в школьный урок, где ученики — свидетели, а учитель — председательствующий. Словно клещами, извлекает он из уст свидетеля слово, потом старается закрепить в сознании свидетеля ту истину, что слово это уже сказано, и только после этого идет дальше.
Что сковало их уста? Знают они правду или не знают? И если знают, то — почему не делятся ею с судом? Или они боятся? Тогда — кого? Тех-ли, которые сидят на скамье подсудимых, или тех, кто, может быть, на нее придет?
Один свидетель мог бы внести много ясности в это туманное дело, но этого свидетеля нет.
Марусины панталоны. В акте вскрытия написано, что они были разорваны в таком месте, что можно на основании этого разрыва говорить о насилии над Марусей.
От чего этот разрыв? Человеческая рука сделала его — или багор, которым, как некоторые говорят, тащили ее?
Но этого единственного, никого небоящегося свидетеля — нет. Тот, кто вскрывал тело, не подумал о значении этого немого свидетеля... Не подумали об этом и следственные власти.
Так тайна осталась тайной. Те, что сидели на скамье подсудимых, ушли с нее — в Рыбацкое, на завод...
Но — «нет ничего тайного, что не стало бы явным».
— Придет время — расскажете! — сказала старухе Дедовой мать погибшей.
Может, время еще не пришло?
Г. Павлов
***
Публикуется по журналу «Суд идёт», № 18 за 1925 год.
Из собрания МИРА коллекция