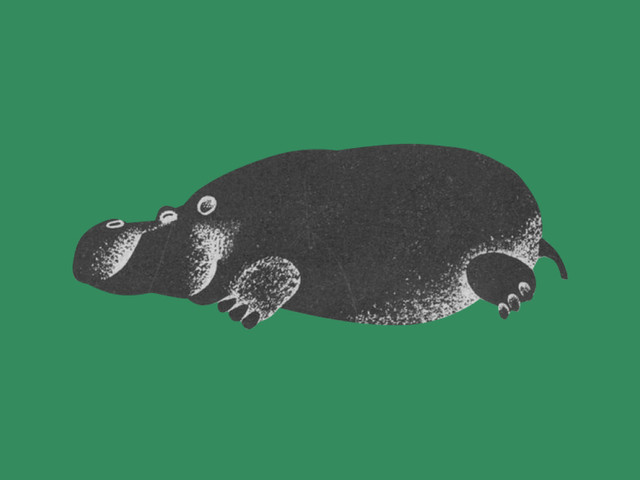«Перебежчики». Константин Боголюбов
1.
Поставив рюмку на место, Арчаков докончил свою фразу:
— А мой дядя по матери — генерал Басалаев. Знаете?
Собеседник склонил свой пробор над тарелкой.
— Слышал. Адъютант Николая Николаевича?
— Да, адъютант. Можете, следовательно, представить, каково мне служить трубачом в Хамовнической пожарной части?
— Н-да, — согласился собеседник, помочив губы в вине, — нелегко. А почему не попробуете за рубеж?
— Пробовал...
Арчаков оттолкнул свою тарелку и принялся выводить на мокром столе какие-то вензеля.
— Вы думаете, что бывшему кавалергарду так легко получить визу?
— Трудновато, конечно. Но почему не попробовать без всяких таких дипломатических уховерток? Рублей полтораста у вас найдется?
Арчаков сумрачно усмехнулся.
— Накоплено у меня и больше...
— Сколько y вас накоплено, — меня не касается. А за полтораста я вывезу вас в Финляндию, в самые Териоки.
— А в Териоках мне погибать с голоду, не зная ни слова по-фински? Здесь, по крайности, сыт и в пороках не ходишь.
Собеседник покачал головой, сожалея о неосмотрительности подобных соображений.
— Во-первых, из Финляндии вы сразу же телеграфируете генералу и подождете от него денег три или четыре дня. Зачем же вам финский язык? А кроме того, Териоки — бывшие дачные окрестности Ленинграда. По-русски там говорят не хуже нас с вами. Ну вот. Обратитесь к некому Мартинену, на хуторе...
Начался конфиденциальный разговор, о котором читателю, не собирающемуся эмигрировать, не для чего и знать. И вскоре после этого разговора Арчаков сел на поезд и поехал до станции Левашево, что под Ленинградом. Здесь его встретил финн в лопоухой шапке, от которого разило то водкой, то луком, а иногда и тем и другим одновременно. Финн усадил Арчакова нa тapaтайку, пегая лошаденка стала прилежно подпрыгивать, и таким способом приехали они на один хутор возле Белоострова, а вечером того же дня двинулись дальше, уже пешком, припадая за каждый куст, извиваясь на животах, как червяки, втянув головы в плечи, словно горбатые.
Но окрестности были пасмурны и безлюдны, и только луна, мелькая в прорывах между облаками, изливала свет неуверенный, тусклый и тревожащий. В конце концов облака сомкнулись. Пошел дождь.
— Дошли. Будем ждать, — сказал финн и, презрительно повернувшись к дождю спиной, закурил трубку.
Ему было все равно что делать. Он даже не взглянул ни разу на Арчакова, ему были заплачены деньги за работу, а все остальное совершалось вне его головы, не огорчая и не радуя.
Соседние кусты качались и размахивали косматыми руками, как пьяные. Затем они стали шуметь еще больше, и из тьмы появились люди — такой же проводник и некто Прагер, берлинец, направлявшийся в СССР без паспорта, впервые и с совершенно неизвестными намерениями. Отойдя в сторону, финны застрекотали безразличными голосами, и Арчакову показалось, что они проверяют емкость вместительной бутылки.
Потом они опять взялись за свое дело.
— Пойдем, — сказал Арчакову его проводник, а проводник Прагера крикнул, утопая в кустах:
— Ты, Мартинен, доставь его к Луизе Ивановне.
Так Арчаков вступил на песчаную почву Финляндии, на которой, несмотря на ее кажущееся бесплодие, расцветали свобода, цивилизация, демократия, порядок. Опять потянулись кусты, полянки и снова кусты, вынырнула из облаков луна и осветила бревенчатую стену лесного хутора, где стояла наготове лошадь. Арчаков взобрался на таратайку и мгновенно заснул, охмелев от вольного финского воздуха.
2.
— Слезай! Приехали. Слезай, тебе говорят! Heкогда... — расталкивал финн Арчакова.
Был вечер. Вокруг гудел невидимый город, и таратайкa стояла у подъезда большого дома. Подъезд зиял, как устье пещеры.
Дом был страшный, но Арчаков улыбался, почуяв Европу. Доносилось даже качанье фокстрота, тягостный вой саксафона, взвизгиванья банджо и шуршанье танцующих ног, похожее на шелест ветра.
Руководимый премудрым финном Арчаков погрузился в дебри огромного дома, пересекая какие-то дворы, карабкаясь по каким-то лестницам, пока не достиг клеенчатой двери, за которой и было логовище Луизы Ивановны, дамы не слишком пристарковатой и даже миловидной для своего юмористического имени.
Луиза Ивановна водворила перебежчика в особом чуланчике, который из вежливости был назван спальней, и из окна которого можно было любоваться густым октябрьским туманом. Впрочем, Арчаков пребывал в уединении не слишком долго. Дверная ручка запрыгала, и дверь приоткрылась.
— Можно? — спросил кто-то и, не дожидаясь ответа, просунул в щель бугроватую голову, на которой редкие волосы стояли как жнивье.
За головой пролезло и тело, коротенькое, нашпигованное жиром.
— Барл, коммерсант, — представился посетитель. — Луиза Ивановна сообщила, что вы только что прибыли.
Арчаков поклонился, в то же время вслушиваясь в фокстрот, который качался совсем близко, за стенкой.
Бapл заметил:
— Это у нас дружеское суаре. Пажалуйста.
Арчаков церемонно отказывался, но ему было так весело, что отказы напоминали мольбу о позволении потанцевать. Поэтому Барл, ухватив его под руку, потащил в соседнюю комнату, успев по дороге шепнуть:
— Кокаин?
— Н-нет, — промычал Арчаков, — я довольствуюсь папиросами.
— Дело не в том. Кокаин привезли?
— Нет. Я, можно сказать, политический.
— О-о, — пропел Барл и, как показалось Арчакову, вздрогнул: — это, знаете ли, много опаснее.
— Почему?
Но, переступив через порог, Арчаков сразу же забыл о своем вопросе. Табачный туман струился по розовым черепам, по мясистым подбородкам, тянулся над женщинами-беж, над женщинами-коти, с дочерна раскрашенными губами и желтыми волосами. Мелькали оголенные дряблые плечи, и глаза женщин удивительно напоминали тараканов на белой стене.
— Иностранец!.. — возгласил Барл, но никто нe обратил внимания на вновь прибывшего. Люди сошлись сюда поиграть в тишине и спокойствии в покер, покачаться в фокстроте, съесть по дюжине тортов и выпить по бочке вина. Последнее желание силилась удовлетворить Луиза Ивановна, мелькая там и сям с бутылками, стаканами, рюмками.
«Вот здесь живут!» — подумал Арчаков восхищенно и, вдруг разойдясь, пригласил самую пахучую, самую желтоволосую даму. Потом подскочил Барл, упрашивая выпить с ним на брудершафт и, вероятно, надеясь заключить выгодную сделку с иностранцем.
Арчаков пил, хмелел, уверял Барла в своей признательности и даже рискнул поцеловать его в щеку, напоминавшую тесто. Впрочем, говорил он немного, а
упоенно водил глазами из угла в угол. Но когда хмель спал, и в окнах забрезжило белое утро, Арчаков справился со своим восторгом и хлопнул Барла по плечу.
— Славно живете вы здесь, чорт побери!
— Ну-у — усомнился Барл, отодвигаясь от дружеских побоев, — у вас, наверное, нашему брату гораздо лучше.
— Лучше? — Арчаков встал, чтобы высказаться в большим удобством: — у нас нос на улицу нельзя показать. Вы коммерсант? — Хорошо. Налоги.
— Ваши налоги вздор! — силился перекричать Барл:
— У вас революция когда была, в восемнадцатом году?
А у нас по сие время тянется. Два года назад у меня была собственная колбасная фабрика, а сейчас я должен служить в исполкоме, если возьмут еще. Задушили совсем, — кругом одни кооперативы.
Тянется революция... должен служить в исполкоме...
«Значит, здесь тоже исполком, зачем?» — с тяжелым недоумением соображал Арчаков.
— Вы приехали из-за границы и ничего не знаете. Конечно тут хорошо, — мебель и все прочее, но мы-то куда денемся? Ведь с часу на час ждем, что Луизу Ивановну арестуют.
— Кто apecтyeт?
— Ге-Пе-У, — выговорил Барл по слогам, поднеся свои рачьи глаза к самому носу Арчакова. — Советская власть. Большевики.
Он обозлился на бестолкового иностранца, но Арчаков чувствовал себя много хуже. Пол под ногами закачался, как болото, и женщины показались paзмалеванными уродами.
— Разве советская власть...
— А что же вы думали, она погладит нac по головке, если застанет в этой вот комнате?
Арчаков растерянно глянул в окно, и вдруг глаза его округлились, стали острыми, как иголки, а сердце провалилось куда-то вниз — в доме напротив дворник пристраивал над подъездом красный флаг.
— Зна-мя,—пролепетал Арчаков, цепенея.
Барл ехидничал:
— Что, в диковинку? Этот еще запоздал. На других домах флаги висят еще с вечера...
В это мгновенье Арчаков понял, что игра проиграна. Спасаясь от большевиков, он бежал в Финляндию, но попал сюда как раз в то время, когда здесь произошел коммунистический переворот. Это было ужасное мгновенье, — Арчаков понял, что выхода нет. Но именно в эту минуту в его мозгу вырос один замысел.
Очевидно, он попал к контр-революционерам, которые празднуют свое поражение, пируют в последний раз. Барл говорил, что большевики не погладят их по головке, если застанут в этой комнате. Значит...
Выдав эту компанию, он заслужит не только прощение, но даже похвалу и награду. И Арчаков начал действовать.
Зевнув с видом крайней усталости, он спокойно пошел в свою комнату и там достал из чемоданчика револьвер, захваченный на всякий случай из Москвы.
Затем, снова выйдя в танцующим, соображал, как поступать дальше. Оказалось, что между танцевальным залом и выходом из квартиры была маленькая комнатка, где охлаждались упившиеся гости.
В комнате было окно на улицу, широкую и пустую, и усевшись на подоконник, Арчаков следил, — не появится ли какой-нибудь подходящий пешеход.
И подходящий пешеход появился. Из-за угла выскочил человечек в военной форме и, видимо, торопясь, пересекал улицу. Когда он подошел ближе, Арчаков высадил локтем стекла и закричал изо всех сил:
— Сюда! На помощь! Скорее! Зовите людей!
Человек остановился, замахал рукой и кинулся к подъезду. Тогда Арчаков обернулся в гостям, которые суетились и галдели, как стадо гусей.
— Ге-Пе-У, — стонал Барл, прижимая руки к животу.
Желтоволосые дамы сбились в кучу, оправляя юбки, кое-кто попробовал проскочить к выходу, но дуло арчаковского револьвера — такое маленькое — сделалось вдруг таким большим, что легло поперек, как бревно.
— Руки вверх! Стреляю...
Арчаков напряженно следил за каждым движением контр-революционеров.
3.
В ту ночь, когда Арчаков перебрался в Финляндию, Прагер переправился в СССР впервые в жизни без паспорта и с неизвестными целями. И в тот самый час, когда Арчаков спал мертвым сном на финской телеге, Прагер сидел в мрачной комнате, окно которой было защищено толстой решеткой, и записывал в свой блокнот русские впечатления:
«Итак, я в России и, надо сказать, поражен выше головы. Начну по порядку.
Малоразговорчивый и даже молчаливый финн доставил меня в Ленинград часа в три пополуночи, и свою первую ночь я провел в стенах небольшого деревянного домика, весьма впрочем, опрятного. Утром, т.е. часа три назад, меня разбудил хозяин, человек симпатичный, но к сожалению, оказавшийся немногим разговорчивее моего проводника.
Здесь я имел возможность убедиться в том, что владею русским языком не слишком плохо, хотя один мой берлинский друг русский и подсмеивался над моим произношением. Мой хозяин говорит точь-в-точь, как я. Как я сказал, он оказался не слишком болтливым, и на мой вопрос о большевиках — а я полагаю, что мог разговаривать с ним откровенно — ответил:
— В тюрьмах.
И ушел, оставив меня предаваться крайнему недоумению в одиночестве. Большевики в тюрьмах — явление отрадное, но заставляющее призадуматься, если
находишься в сердце большевизма.
Кстати сказать, это „сердце“ не произвело на меня особого впечатления. Столь прославляемой Невы я еще не видал, не видал и роскошных дворцов русских вельмож, но, помимо этого, не видал вообще ни одного приличного здания. По обе стороны нашего домика настроены такие же крошечные деревянные коттеджи,
окрашенные охрой и обнесенные деревянными заборчиками, за которыми красуются неприхотливые сeвepные цветы. В общем, — германская деревня средней руки, и даже отсутствует уличное движение: два-три пешехода, не больше.
Вначале я было подумал, что это предместье и, желая проверить свое предположение, вызвал хозяина.
— Скажите, это какая-нибудь окраина? — спросил я, но он возразил оскорбленно:
— Нет, это одна из хороших улиц.
Отсюда я полагаю, что величественные красоты Пальмиры Севера — не более, как плод фантазии господ поэтов, которые, как известно, всегда были отъявленными лжецами.
Посидев немного у окна и приняв очередную порцию мальц-экстракта, я вышел на улицу, и вскоре очутился на каком-то перекрестке, где, к величайшему моему удивлению, возвышался саженный полисмен в черной каске и в черной же, присвоенной его званию, одежде. Величественно помахивая руками, он регулировал уличное движение, состоявшее из одной конной повозки, одного грузового автомобиля и двух велосипедистов.
При взгляде на бравого блюстителя общественного порядка у меня возникла мысль — не произошел ли в России в то время, пока я переходил через границу,
государственный переворот, но, не доверяясь прихотям своего воображения, я решил ознакомиться с официальными распоряжениями последних дней. Заметив
поблизости газетный киоск в мавританском стиле, я направился к нему, стараясь держаться непринужденно и уже не опасаясь своего незнания русского языка.
— При большевиках-то гораздо лучше живется, — сказал я газетчику, весело подмигивая: — большевики это не фашизм какой-нибудь, не Ку-Клукс-Клан, не
щюцкоp.
Одобрив большевиков и отозвавшись презрительно о фашистских организациях, имена которых случайно пришли мне в голову, я полагал, что отвожу всякие подозрения о моей неблагонадежности, какие могли возникнуть у газетчика при виде моей, вообще говоря, нерусской фигуры. И действительно, газетчик растрогался и улыбался дружески и даже слащаво.
— Да-а, что и говорить...
Я тоже улыбнулся.
— Ну вот и прекрасно, дружище. Дайте-ка мне „Правду“.
Газетчик ответил, что „Правды“ у него нет и направил меня на следующий перекресток, но едва я сделал несколько шагов, как на мое плечо опустилась тяжелая рука в перчатке.
Обернувшись, я увидел господина с нафабренными усами, который и пригласил меня следовать за ним.
— Как следовать?
— А вы думаете беспрепятственно заниматься коммунистической пропагандой? — спросил он, зловеще пошевеливая своими усами и столь же зловеще опуская руку в карман, где, без сомнения, находилось огнестрельное оружие.
И хотя я всегда утверждал и буду утверждать и впредь, что насилие над личностью — факт вопиющий, но, соображаясь с обстоятельствами и повинуясь естественному инстинкту самосохранения, я последовал за господином, который отвел меня в эту камеру, где, осаждаемый блохами особой русской породы — величиною с горошину, я и пишу эти строки.
В промежутках между блошиными укусами я умозаключаю, что коммунистический режим в России свергнут, и у власти стоит честное демократическое правительство, перед которым я, разумеется, сумею оправдаться».
4.
Человек, позванный Арчаковым, оказался весьма энергичным: откуда-то набрал людей, поднял на ноги милицию и явился в квартиру Луизы Ивановны.
Арчаков удовлетворенно опустил револьвер.
Один из вошедших, к которому милиционеры относились с явным почтением, обошел все комнаты, осмотрел каждого гостя, понюхал бутылки, на зеленом сукне нашел белые пылинки кокаина, некоторых женщин назвал прямо по именам и скорчил неописуемую гримасу.
— Однако, притон первостепеннейший. Великолепные экспонаты...
Арчаков улыбнулся самодовольно, как улыбается хозяин зверинца, показывая молодых львов, у которых еще не вытерлась шерсть и не обломаны зубы.
— Замечательная коллекция, в особенности, если...
В толпе вошедших неожиданно мелькнуло лицо товарища Рапича, московского знакомого Арчакова.
— Арчаков, как вы здесь очутились?
Нужно было выпутаться из нового осложнения и оправдать свое пребывание в тихой обители Луизы Ивановны. Придумывая, что ответить, Арчаков спросил сам:
— А сами вы зачем сюда приехали?
— Я здесь на партийной работе. Уже с месяц, как из Москвы.
Услышав, что из Москвы приезжают в Финляндию на партийную работу, Арчаков решил связать свою судьбу с судьбой революции еще теснее.
— С месяц? Вы, значит, ничего не знаете о московских событиях? Как только Коминтерн опубликовал воззвание — „Все на помощь братьям-революционерам“, я бросил свою службу. Знаете, пахнуло порохом.
Явился первым. А там мой старый знакомый, бывший полковник генерального штаба, — Вас, — говорит, — Арчаков, назначаю командиром отряда. — Десятка четыре головорезов, маузеры, карабины Кольта, бомбовоз к нашим услугам. Снизились за городом. Посылаю разведчика к этому... секретарю партии.
— К Кирову? — догадался Рапич, бледнея.
— Ну, да, пишет, что фашисты засели в полицейском управлении. Тогда я говорю: ребята, мы победим!
И вот мы врываемся в город, как стая волков, маршируем сомкнутыми рядами, полицию в щепки, резня.
Рапич сощурился.
— И что дальше? — Мои ребята еще сражались у правого флигеля, а я полетел к этому Кирову! Революция спасена! Но дорогой я повстречал этих господ.
Арчаков указал рукой на посетителей Луизы Ивановны.
— Как я понял из подслушанных обрывков фраз, они собирались повеселиться в последний раз на обломках развалившейся буржуазной Финляндии. Я примкнул к ним, и они в руках правосудия. Теперь поспешу к своим львам. Рапич покусывал губы, раздумывая.
— Так. Болезненно развитое воображение, неумение отличить вымысла от действительности... — подвел он мысленно итог своим впечатлениям. — Картина притона вызвала в его уме представление о контрреволюции, о борьбе за власть. Явная мания...
— Скажите, где мы находимся? — спросил Рапич так неожиданно, что Apчаков дернулся в сторону.
— Как где? В Териоках!
Рапич опустил голову, сожалея о погибшем человеческом разуме.
5.
Описав свои злоключения, Прагер вспомнил о забытом дома портсигаре и, огорченный его отсутствием, готовился уже задремать, как вдруг по полу скользнула какая-то тень.
Прагер поднял голову. К оконному стеклу прильнуло лицо его молчаливого хозяина, который делал какие-то конспиративные знаки. В его появлении не было ничего удивительного. Полицейский участок помещался в низеньком доме, и окна были над землей не выше, чем на фут. Гораздо удивительнее были слова хозяина:
— Вам, наверное, будет плохо, если не докажете, что вы офицер.
— Офицер? — изумился Прагер. — Я никогда в жизни не был офицером. Я жил на проценты.
— Тогда пошлите телеграмму генералу. Составьте сейчас же текст, а я отправлю. Поскорее, пожалуйста. Я и так сбился с ног, разыскивая вас. Еще хорошо, что мой шурин служит в полиции. Ну, пишите. Неужели же вы не могли отделаться от ваших русских привычек?
— Вы смеетесь, наверное. Какому генералу писать, от каких привычек отделываться? Я никогда не был русским.
Хозяин побагровел.
— Что-о? У вас нет дяденьки-генерала, вы не русский?
— Если джентльмен говорит, ему нужно верить, не переспрашивая, — сказал Прагер внушительно.
— Но вы же спасаетесь от преследования, вы...
— Я прибыл сюда не спасаться, а собрать данные о военных силах республики.
— Шпион! — простонал хозяин, хватаясь за волосы.
— Мы переправили шпиона-большевика!
Прагер оправил пиджак и заложил руки за спину, чтобы в такой позе с большим удобством охранять свое достоинство.
— Милостивый государь, — начал он гневно, — вы осмелились назвать большевиком и шпионом Генриха Прагера, и понесете ответственность за свою дерзость.
Эти слова были великолепны. Они поражали, как молния, но хозяин не испугался, а пришел в какое-то странное состояние: неожиданно вспотел и, видимо, сомневался в своих умственных способностях.
— Прагер?.. Генрих Прагер?.. Его должны были переправить в Россию.
— В Россию?
— Как же вы очутились в Финляндии и у меня, когда я должен был приютить русского офицера Арчакова?
Прагер нахмурился, но вдруг лицо его вновь прояснилось и даже засияло.
— Арчакова переправлял Мартинен?
— Да, Мартинен с хутора.
— Ах, вот что! Ну, обо мне не беспокойтесь.
И, присев на нары, Прагер занес в свой блокнот следующее:
«Вышеописанные заметки вполне справедливы, но везде вместо „Россия“ следует читать „Финляндия“, а вместо „Ленинград“ — „Териоки“. Дело в том, что переправа через границу происходит здесь следующим образом: один проводник ведет перебежчика с финской стороны, а другой — с русской, и на границе в условленном месте они обмениваются перебежчиками.
Но пьяные проводники ночью спутали меня с каким-то Арчаковым и отвезли его вместо меня в Ленинград, а я попал обратно в Финляндию, в Териоки, которых доселе никогда не видел».
***
Константин Боголюбов. Рисунки: И. Колесников. Публикуется по журналу «Вокруг света», № 43 за 1928 год.
Из собрания МИРА коллекция