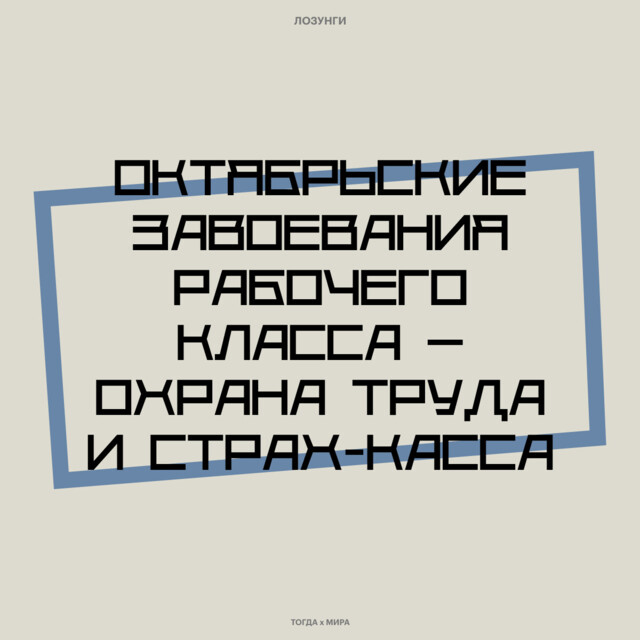«Загадка озера Кара-нор». Василий Ян
I. У партизанского костра.
Под деревьями на берегу Енисея горело несколько костров. Вспышки красного пламени озаряли обветренные лица, желтые полушубки, шапки с наушниками. Блестки играли на темных дулах ружей. Партизаны пили баданный чай, пересмеивались, чинили сбрую и одежду. В нескольких шагах от костров было уже темно. Там стремительно неслась бурная и мрачная река.
— Эй, гвозди! — хриплый голос покрыл шум разговоров. — Укладывайся на боковую. Парома, видно, не дождаться. Завтра чуть свет начнем плавить коней.
— Ладно, Турков, дай уздечку справлю. Коли она не выдюжит — коня потеряю.
Из-под лохматой папахи торчал непослушный белокурый завиток. Молодое лицо Кадошникова склонилось над сыромятными ремнями. Ловко работало шило, всучивалась дратва.
Рядом с ним на черном изогнутом корне корявого тополя сидела синяя монгольская шуба. На широкой груди, расшитой черным плисом, распласталась рыжая борода. В голубых глазах прыгали искры костра. Заскорузлая пятерня доставала из розового ситцевого мешка сухарные крошки, сыпала в деревянную миску, поливая мутным чаем из прокоптелого жестяного чайника. Огонь костра и тихая ночь располагали к мечтательности.
— Ядреная страна наш Урянхай! — говорил, расчесывая пальцами бороду, Колесников. — Сколько землицы и какого только зверя здесь нет. Какая птица! А рыбы всякой в Енисее сколько хошь.
— Только достань сперва ее, — буркнул мрачно парень, не отрываясь от уздечки.
— И достану! Все крестьянин могит достать, надо только, чтобы смекалка была в черепушке.
— А вот достань рыбу из нашего озера Джагатай, если рыба-то сверху вниз ушла.
— Поглубже невод спустить, дно зачерпнуть...
— А если у нашего озера дна нет?
— Дна нет? А на чем вода держится?
— У нашего озера подземный ход под хребтом Таннуолой к другому озеру, что в Монголии. Говорят урянхи, что рыба кочует из того озера в это и назад. Буря подымется, воду всколыхнет, рыба к берегу всплывает, мы ее тогда неводами и подтягиваем. А дна у озера нет, сколько ни спускали мы бечеву с камнем, никак не достает, и кто-то в роде как перетирает бечеву. В роде как зубом.
— Это ты, паря, брешешь. Кто же это бечеву будет в озере перетирать? Поди, цепляется за дно.
Кадошников помял ремни в руках, потянул их, зацепив ногой в мягком бродне, и взглянул на рыжего:
— А ты не слыхал про черного гада, что сидит в Монгольском озере?
Колесников закатил глаза к небу, показав белки, и помотал головой.
— Это, поди, тоже брехня.
— Спроси Хаджимукова. Своими зенками он видел. Вот он... Эй, Хаджимуков!
У соседнего костра стоял высокий партизан, весь зашитый в бараньи шкуры. За спиной болталась винтовка с подогнутой сошкой.
— А ежели он видел, почему не притащил на аркане? Крестьянин все должен использовать. Коли увидел черного гада, взял бы его живьем и послал в Москву. Пусть видят, какие звери в Урянхайском краю водятся.
— Такого подлого гада в Москве кормить бы не стали. Перетопить его на сало, красноармейцам сапоги мазать.
Хаджимуков подошел; глаза раскосы, скулы выдаются, борода жесткая, что из конской гривы — татарин.
— Что, брат, Кадка рябая? В дорогу ехать, так шорничаешь?
— Коня мне Турков такого монгольца дал, что узда сразу надвое. А завтра его надо через Енисей переплавить.
— Поди, утопишь... Чего меня кликал?
— Садись, Хаджимука. Колесников не верит, что ты гада видел, говорит: «брешет косоглазый».
— Я-то не видел? А это что? — и Хаджимуков сунул к носу Колесникова нагайку. К деревянной ручке был прикреплен четырехгранный ремень толщиной в палец.
Колесников взял нагайку, пощупал ремень пальцами, попробовал на зуб. Кадошников тоже впился глазами и ткнул ремень шилом.
— Это от какого же зверя будет? Неужто от гада?
— Сказал — от гада! Это только от сосунка евоного. А с самого гада шкуры не снять, если и всех урянхайских шорников сгомонить.
— А и врешь ты! Все вы, абаканские татары, путаники, — рассердился Колесников.
— Садись, садись! Не серчай! Расскажи толком, — Кадошников схватил за полу владельца диковинной нагайки из кожи гада. — Садись, на, кури! — он сунул ему кисет с табаком.
Хаджимуков, чувствуя, что достаточно убедил партизан, сел к костру и набил табаком длинную самодельную трубку из кизилового сучка.
II. За Монгольский хребет.
— Помните, прошлым летом, когда отряд Бакича наступал из Монголии, прискакал, вот как и сейчас, гонец от Туркова и взгомонил всех партизан собираться на белобандитов. «Торопитесь, — говорит. — А то перевалит он хребет, бои пойдут на наших хлебах, поселки сожгут. Какая нам корысть! Надо их ухватить, пока они в Монголии, по дороге к нам наступают». Мы, конечно, на коней, у кого коня не было, отобрали у старожилов — и марш-маршем под хребет. Дальше дорога на Улясутай торная, поди, каждый из нас туда пробирался. Командиром избрали Кочетова. Он не повел по прямой дороге. «Это, — говорит, — зря сунемся им в лоб. Расшибемся об их пулеметы». А повел он наших парней по-за сопками, сойотскими тропами. Главная сила пошла слева от дороги, а нас, человек с десяток, Кочетов послал справа, пошарить по сопкам, не злоумышляет ли Бакич ту же обходную уловку. Вот тут-то и начался наш переплет.
Наш десяток ехал не скопом, а разбился по тропам. Мне с Бабкиным Васькой пришлось переваливать через гору Сары-яш. Сперва мы ехали по ущельям, между отрогами, что чащой поросли. Потом стали подниматься голым таскылом. Там дорога стала итти бомами по-над обрывами. Внизу сажень на десять поблескивает ручей. А кругом него болота, мшанники, буреломом завалено — самое медвежье место. Переезжать через такие ручьи — самое последнее дело: лошади вязнут по брюхо. Мы и подались кверху, к вершинам, где пошли кедрачи. А троп много, потому зверья уйма, всюду видны следы. То вдавилась медвежья треугольная пятка, то кусты объедены — лось проходил, то мелькнет между деревьями желтый бок маралухи.
Повременить бы там, мы бы без охоты не вернулись. Но нам не до того — общество послало, мы все торопим коней, вздымаемся в гору и наконец видим монгольское «обо»: камней много навалено кучей, хворост сверху, и цветные тряпочки понавешаны на ветках. Это монголы и сойоты, как дойдут до самой вершины хребта, камень на «обо» подкидывают — подарок тому ихнему богу, что гору стережет.
Мы обрадовались, что добрались до перевала. Сошли с коней, табачок раскуриваем, а Шарик мой лай поднял в кустах. Увязался Шарик со мной от самого дома. Как видит, что винтовку беру, ничем его не удержишь. Я с ним завсегда белковать ходил. Лает Шарик, заливается. Думаю: будь ты неладен! Кто там в кустах хоронится?
Хаджимуков сел к костру...
Только подумал, выходят из кустов три сойота. Два бедных, шубы на них рваные, винтовки самодельные, кремневые на вилках. А один похозяйственнее, шуба крыта синей талембой и обшита бархатом, на голове шапка с плисовыми отворотами. А винтовка в руках настоящая аглицкая. Мы ничего, честь-честью поздоровкались:
— Мен-ду!
— Мен-ду!
Угостили их табаком. Сели они рядком, посмотрели мы ихнюю аглицкую винтовку, а они наши. Объяснили сперва, что охотятся на горных козлов — дзеренов, а потом признались, что ихний начальник — «нойон» — послал этот перевал сторожить — пойдут ли на Урянхай белые или кто другой — и донести.
Мы им тут набрехали, что нас дюже много, что за нами сотни три партизан подтягиваются, и просим растолковать нам дальше дорогу. Тут они нам все и выложили.
— На Монгольской стороне, — говорят, — за хребтом Таннуолой идут щеки, глубокие да узкие, с трясинным дном, где конь наверняка утопнет. Потому надо итти по хребтинам. Из этих щек сбегают ручьи в большую речку Тэс, вьется она, как уж между скалами, и вливается в большое озеро — Упса-нор. Вокруг озера собралось много монголов с баранами, быками и верблюдами. Пришли и урянхи. Там и аулы их, где они помаленьку хлеб подсевают: просо, ячмень, а также арбузы и мак для курева. Не доходя Упсы-нора, повыше к хребтам, тоже есть озера, но помельче. Раньше около тех озер монголы и урянхи стояли, но только все враз оттуда разбежались...
— А почему, — спрашиваю я, — разбежались?
— А потому, — говорят сойоты, — что там в одном озере большой гад завелся, никто его убить не может: уж больно гад хитер, умнее человека. Все из воды видит, высматривает, а на берег не лезет. Если бараны или телята пойдут на водопой, гад схватит за ногу или за морду и утащит под воду. А озеро называется Кара-нор — Черное озеро, и дна в нем нет, трубой уходит неведомо куда под хребет.
Тут мы с Бабкиным переглянулись и подмигиваем. Васька и говорит:
— Вот бы, паря, нам к этой Карьей норе попасть и гада взять на мушку.
Я тоже говорю, что медведей я без счету бивал, рысей, лосей, марала, а про гада водяного никто у нас и не слыхивал. То-то будет разговоров по всему Урянхаю и Абаканской степи, что мы гада подшибли. Тогда сразу собьем славу нашим охотникам — Турову, и Нагибину, и самому Цедрику.
Расспросили мы еще сойотов, как до Кара-нора добраться, отдали они нам от доброго сердца окорок козла, на огне подкопченный, и тронулись мы с Бабкиным дальше. Тут нас взяло сомнение: зачем сойоты сидели на перевале, не подосланы ли белыми следить за тропами. Бабкин и говорит:
— Меня не то беспокоит, а не посылают ли они нас нароком на Карью-нору, потому что там, может, этот самый отряд Бакича засел. Оттого-то монголы во все стороны и разбежались, потому Бакич самый гад и есть, а на озере никакого гада нет.
Все же мы решили ехать на озеро Кара-нор, — у сойот тоже, поди, совесть человеческая, к тому же ребята артельные, козлятины нам дали по-хорошему.
III. Озеро, от которого все убегают.
Дня через два мы озеро нашли. Как урянхи говорили: длинное, километров на восемь, в начале узкое, а по середине шириной километра на два. На высоких берегах — осина, березняк и кусты. Один край берега чистый, засыпан мелкой галькой, хорошо с него скотину поить. Мы еще издалека, как его завидели, коней за горой в лощинке к деревьям привязали, меж кустами хоронимся, ползем, скрадываем, как зверя.
Только подумал — выходят из-за кустов три сойота...
Тихо на озере. Малость рябит от ветерка. Вода черная, блестящая, что смола. Шарика на ремне держу, и он чего-то смекает, уши насторожил, не рвется, а глядит вперед и носом поводит — дух, что ли, какой чует. Подобрались ближе. Никого, все тихо. Утки пролетели над озером, снизились, да будто их шибануло, опять поднялись и дальше перелетели. Сели, головки подняли, вертят по сторонам. Видно, что-то их тревожит.
Бабкин меня подталкивает: гляди, значит, в оба, чего-то на озере есть! А чего — не видать. Мы на высоком берегу лежим в кустах, а озеро под нами, как в миске. Кругом сопки, на них листвяк, рябина, елки. А в монгольскую сторону сопки снижаются и далеко, километров за двадцать, опять высокие хребты с таскылами. Те горы Кукэй прозываются, высоченные, и на них снег под солнцем блестит.
Тут мы видим, будто кто-то в малиннике на том берегу ширеперится. Ветки шатаются, а кто — не понять. Бурый бок виден — то ли медведь, то ли бык. Я бы его снял в два счета, да не к чему было раньше времени тревогу подымать. Потом кусты затихли, видно зверь отошел подальше.
Пождали мы маленько, поползли вдоль берега. Видим — поляна, мелким щебнем и кругляком усыпана. За ней откос, на нем сосны и под деревьями избенка, низкая, вся в землю ушла, только крыша высунулась, из бревен связанная. Окошечко в четверть, чтобы зверь не влез, а винтовку оттуда высунуть.
Смотрим: не выйдет ли кто? И вот из избы вылезает на-кукорках баба в синей монгольской рубахе. Дверь видно тоже махонькая, в шубе и не пролезть. Вскочила она, в одной руке туесок берестяной, а в другой топор. Спустилась по откосу, побежала к ручью, зачерпнула туеском и бегом назад, кругом оглядывается. Вползла опять на-кукорках в сруб и дверкой хлопнула.
Бабкин мне шепчет на ухо, сам позеленел и глазами косит:
— Верно, здесь медведи табунами ходят, коли баба так в избе прячется и по воду с топором ходит. Кабы зверь наших коней не задрал. Давай шить с этого места!
— А ты, что ли, медведей не видал? — говорю. — Сами, кажись, своей охотой сюда зашли. А коли баба здесь, значит и мужик имеется — без него одна баба жить побоится.
Повременили малость, поползли дальше, стали петлять, задумали избенку обойти и к тому месту выйти, где в кустах зверь ширеперился. Большой круг мы дали и вышли опять к озеру. Тихое, гладкое, ничего на нем не приметно. Залегли в кустах, малину и белую смородину подъедаем. Глядим: человек спускается между валунов, и совсем голый. Спекло его на монгольском солнце, так что бурый стал, как аржаной каравай. А волосы на голове стоят копной, что у туранского попа, и борода в лохмах до пояса. Совсем одичал человек. На плече тащит пеструю кабаргу удавленную. Подошел близко к воде, поднял высоко кабаргу, покликал: «менду, менду» и бросил в воду. Тут по озеру волна пошла, точно большая рыба стаей пронеслась.
В это время около нас выскочили две здоровые собаки, шерсть в клочьях, и напустились на нас. Хрипят, давятся, а подойти боятся.
IV. Одичавший старатель.
Голый человек насторожился и бросился бегом к нам... В руке у него, видим, топор-колун на длинной рукоятке. Я встаю и иду открыто к нему, чего мне бояться: у нас винтовки, а у него топор. А он как увидел меня, взбеленился и начал крыть почем зря:
— Чего вы сюда пришли, острожники?! Здесь места меченные, застолбованные. Монгольские управители мне документ дали. Убирайтесь отсюда, а то я на вас моих гадов спущу, они вам глотки перегрызут.
Под деревьями избенка, совсем в землю ушла...
Смотрю я на него, дивлюсь, а он прыгает на камне, топором машет, кричит, слова сказать не дает. Вся морда шерстью заросла, только серые гляделки словно проколоть хотят. И думаю я: где я рыжую башку раньше видел. Говорю ему:
— Карлушка Миллер, немецкая душа, не ты ли это? Как сюда попал?
Остановился он меня честить, разглядывает, а все поднятый топор держит.
— А ты кто такой? И откуда меня знаешь? А я тебе не Карлушка, а Карл Федорыч Миллер.
— Неужто забыл, Карлушка Федоровна, как мы с тобой на речке Подпорожной золотишко мыли и ничего не намыли, а последнее, что имели, проели?
— Теперь я вас припоминаю, камрад Хаджимуков. Мы в самом деле на Подпорожней золото мыли, и даже, как честный человек скажу, что я вам остался должен за полфунта пороха и сто пистонов. Только если вы пришли долг спрашивать, так пороха здесь ближе, как в Улясутае, не достать. А если хотите золотишком промышлять, так милости просим — откатывайте на другие озера, а здесь все позанято, и я никого не пущу.
— Полно дурака валять, Карлушка! Мы к тебе с доброй душой пришли, никакого мне долга не надо. Ты только расскажи толком, какие здесь кругом люди живут, показываются ли белые и далеко ли монголы?
— Ничего я ни про кого не знаю, — говорит. — Я человеконенавистник. Живу один вместе с солнцем, лесом и озером, и очень рад, что не встречаю ни одной человеческой рожи. Люди всегда меня обманывали. Как только найду я где золотую жилу, налетят все, как галки, меня оттеснят, нажиться им поскорее надо. Оттого я и ушел от них в дикие места. До свиданья!
— Постой, Карлушка, — говорю, — ведь мы с тобой приятели были, калачи вместе ломали. И хотя ты гостей принять не хочешь, а все же мы против тебя ничего не имеем и вертаем назад. Только ты скажи нам последнее слово: правда ли, что в этом озере гад живет и баранов за морду таскает?
— Здесь обитает животное, очень древнее, в других местах его больше нет, иштызаврус называется. Других людей и зверей, это верно, он хватает, а мы с ним дружны. Если бы не он, сюда бы народу прикочевало сколько, и меня бы отсюда опять вытеснили. А я этого гада подкармливаю и через два дня в третий приношу ему кабаргу или другую дохлятину. Для того я в тайге засеки навалил и петли в проходах повесил. Вот и сегодня я ему козу подбросил.
— Значит, — говорю, — коли ты это животное кормить не будешь, оно тебя съест?
— И вас съест, камрад Хаджимуков, если вы в озере купаться вздумаете. Я очень извиняюсь, что больше не могу разговаривать с вами, потому я человеконенавистник...
— Не крути, Карлушка, не всех же ты ненавидишь. Там, в срубе, не твою ли жену мы видели, монголку?
— Как вы могли подглядывать в чужой дом?! Фуй, как вам не стыдно! Больше я с вами не разговариваю. До свиданья. Смотрите: если только вы будете близко подходить к моему дому, я буду стрелять картечью. — Кликнул Карлушка своих собак и побежал в кусты, волоса по ветру треплются. Овчарки кинулись за ним, и все стихло...
Колесников ударил ладонями по коленям, прервал рассказ Хаджимукова:
— Дивные дела! Чего только не бывает! А ведь я Карлушку хорошо знаю. Далеко же он от нас подался. Я его давно заприметил, еще когда он на Усу на Золотой речке золото мыл. Чудной был немец, в роде у него ум за разум зацепился. В круглой соломенной шляпе ходил, сам ее из камыша сплел. Ученый был человек, — гимназию, говорит, в Риге кончил, латынские слова знал и занятно рассказывал про всякие камни, зверей и звезды. Слух ходил, будто он на родине тещу убил самоваром, — очень она ему досаждала, что в семейные дела мешалась. Его на каторгу сослали, и он с другими острожниками был на постройке Усинской дороги. Оттуда через тайгу к нам в Урянхай прибежал спасаться. Все хвалился, что найдет главную золотую жилу, с которой золотой песок смывается. Возле него и жались разные старатели, думали от него поживиться. А теперь, поди ж ты, в Монголии, у Карьей норы объявился! Не иначе как там золотую жилу раскопал... Ну, Хаджимука, валяй дальше! Что еще с вами было?..
V. Глаз в воде.
— Поговорили мы это с Бабкиным, — продолжал Хаджимуков, — чего же дальше делать? Озеро как озеро, ничего в нем не видать. Купаться в озеро пойти — боязно. Может, и впрямь в нем гад ползает и в воду стащит. Пошли мы малость дальше берегом и увидали около воды большие камни-кругляки. Тут мы осмелели и спустили лайку, чтобы кругом пошарила. Шарик встряхнулся, завертел рыжей метелкой и забегал по берегу, камни обнюхивает. Потом спрыгнул к самой воде и стал лаять.
— Зря спустили его, — ворчит Бабкин.
Стали мы подзывать к себе Шарика, но тот заливается, тявкает как на лисью нору, лезет в воду, а шерсть вздыбилась, и зубы оскалил.
«Убирайтесь отсюда, а то я на вас своих гадов спущу!» — крикнул голый человек...
Вдруг выбросилась из воды лошадиная морда с острыми щучьими зубами, вытянулась кверху на зеленой гусиной шее, изогнулась да как схватит Шарика за спину. Взлетел Шарик на воздух, трепыхнул лапами, взвизгнул в последний раз и шлепнулся в воду. Покатились во все стороны светлые круги, а Шарика мы больше так и не видели.
Посмотрели мы с Бабкиным друг на дружку.
— Что же это такое? — говорю.
— Самый этот гад и был. Чего зевал? Надо было палить. Теперь твоему Шарику каюк! Уйдем-ка отсюда подобру-поздорову.
— Нет, — отвечаю, — шалишь! Партизан, да чтобы гада испугался? Не может этого быть: Колчака мы свалили, Унгерна колотим, Бакича ловим, — нет, так я не уйду! Давай-ка приляжем за камень.
Положили мы винты перед собой и стали следить за озером. А солнце уже спускалось на елки, скоро и заворачивать надо.
И замечаю я на воде глаз — большой, темный, навыкате, как у вола. Лежит глаз на темной воде и смотрит на меня сторожко так да умно.
Потом серое веко затянуло глаз, он опять открылся, прищурился и передвинулся поближе.
— Гляди, черная точка на воде, — шепчу я Бабкину.
— Где, где? — всполошился он.
Стал я наводить винтовку на глаз, а Бабкин уже заметил и шепчет:
— Постой, мы ему другую штучку покажем...
Отцепил он с пояса гранату, наставил ее и спустился ниже к воде. Тихо, чтобы не вспугнуть, поднял гранату и бросил ее в темный глаз.
Граната на тихом озере взорвалась, точно чебулдахнулось на нас самое небо. Гром пошел, и во всех горах застукало. Вода забурлила, выкинулись зеленые лапы, захлопали, пену взбивают. Круглое брюхо, пегое с бурыми подпалинами, выпучилось над водой, перевернулось. Показалась злобная морда, нос разодран, весь в крови, на макушке петуший зеленый гребень. Колесом покатился гад по озеру, волны будоражит, длинный зубчатый хвост подбрасывает. Потом скрылся под воду, еще раз показался, хлестнул хвостом и нырнул в последний раз.
Граната на тихом озере взорвалась, точно чебулдахнулось на нас самое небо...
— А если в озере еще такие звери остались? — говорит Бабкин. — И он поплыл звать себе на подмогу? Давай-ка сматываться отсюда к лешему.
Думаю: время к вечеру, пока доберемся до лошадей — совсем стемнеет. Быстро пошли знакомой дорогой. Кони на своем месте. Развели огонь. Ночью спалось тревожно. С озера шел какой-то рев. То ли гад кричал, то ли Карлушка по своем дружке панихиду служил, али медведь ревел, — кто разберет, что в тайге слышится...
Хаджимуков замолчал, набивая трубку табаком. Партизаны наблюдали за ним, ожидая продолжения рассказа.
— Ну, и дальше что? — спросил Колесников.
— Мы к озеру больше не вертались. Проехали кружным путем к реке Тэсу, встретили там юрты монголов. Они нам поведали все, что знали про белых, и я с Бабкиным через несколько дней стрелись с нашей главной партизанской силой на Улясутайском тракте. Ребята ехали уже с песнями, — они навалились врасплох на белобандитов, когда те стояли лагерем, и не снилось им, что с сопок и сбоку и сзади начнется стрельба. Посадили они на автомобили своих барынь — и ходу назад, в Монголию. Все, кто мог — и на конях и пешие бежали, побросав лагерь. Большую добычу мы забрали: и палатки, и оружие, пулеметы, серебро...
Кадошников, прищуря недоверчивые глаза, прервал Хаджимукова:
— Это мы знаем, слышали, да и многие сами участвовали. А вот что мне сумлительно. Ты вот сказывал, что плетка твоя из сосунка гадова. Где ж ты ее подобрал?
— Где? Мне Карлушка ее подарил. Утром ведь он разыскал нас на другой день — нюх у него стал звериный. «От лошадей, — говорит, — дух я почуял». И пришел он к нам в портках и соломенной шляпе. Принес он мне эту нагайку и объясняет: «За порох и пистоны, что я должен остался, я вам, камрад, такую плетку дарю, какой во всех Европах ни у кого нет. У этого иштызавруса сосунок был, молоком его кормился. Подох он, и к берегу его ветром прибило. Я из шкуры его ремней накроил, петель наделал, чтобы в засеках кабаргу ловить. Так матка все приплывала и сосунка носом тычет и мычит, — думала, что очнется. А потом волки мясо объели, одни кости остались. Я с того места подальше перебрался и тот сруб сложил, где вы мою супругу-монголку видели»...
Последние огни облизывали раскаленные вишневые угли. Черная ночь все затягивала своей бархатной полой. Партизаны подбросили в костер хворосту и стали укладываться. Становилось холодно, и в оранжевом свете вспыхнувших сучьев было видно, как нагольные полушубки и приклады ружей покрылись матовым налетом серебристого инея.
Колесников бормотал:
— И чего только немцу с голодухи не придет на ум. Сперва обезьяну выдумал, а теперь, поди ты, с гадом подружился. Не зря говорят: немец без уловки и с лавки не свалится!..
***
Василий Ян. Рисунок: Б. Шварц. Публикуется по журналу «Всемирный следопыт», № 7 за 1929 год.
Из собрания МИРА коллекция