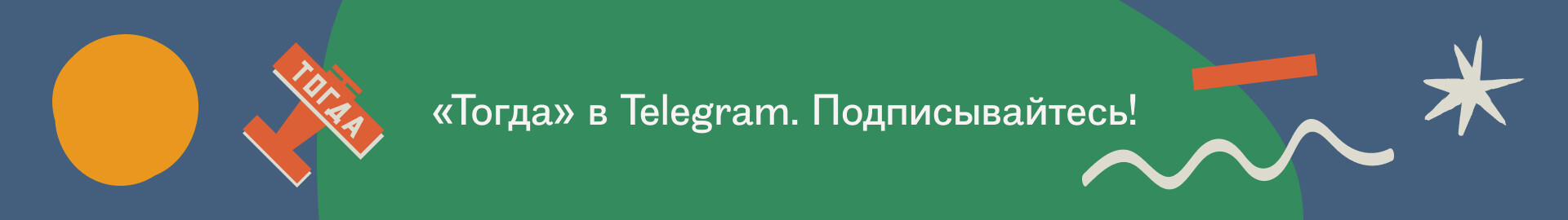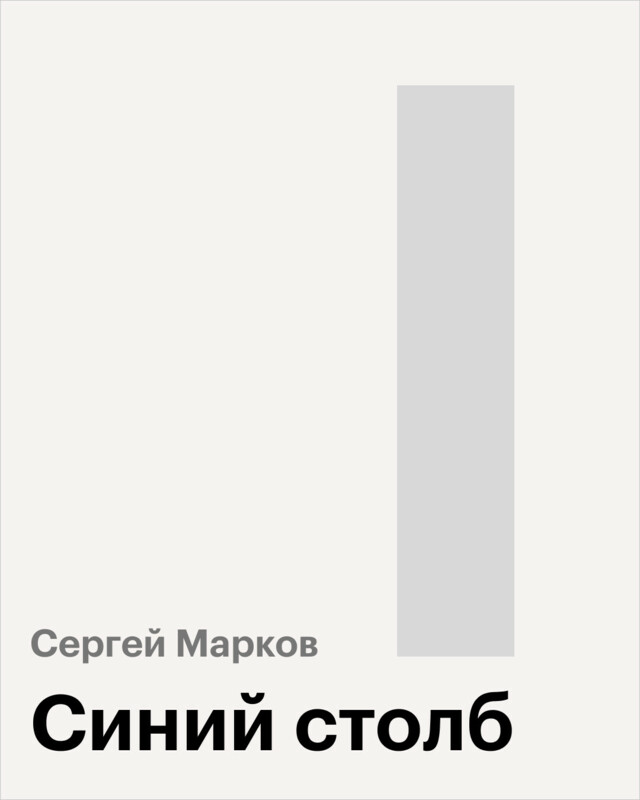«День». Юрий Олеша
Лето третьего, решающего года было жарким и чистым. Я вошел в переулок.
Поперек пути плыла река. Я к ней приближался. Я видел ее спину, река бежала, низко пригнувшись. Я видел, как двигаются ее синие лопатки.
Я вышел на набережную.
Работали на солнцепеке каменотесы.
Я повернул налево и пошел по набережной, имея впереди себя Храм Христа Спасителя.
Его начали разрушать.
Купол уже сквозит, нижний ряд золотых листов снят. Я вижу ребра, сумеречную внутренность купола. Это похоже на постройку, корабля.
Я остановился под деревом.
Подошел человек. Между нами, завязался разговор. Человек сказал, что разрушение такого храма есть акт чистейшего вандализма. Я возразил. Люди сведущие утверждают, что храм этот никакой архитектурной ценности не имеет.
Человек был худощавый, с усами, маленького роста и в длинной до колен толстовке.
— Вместо того, чтобы разрушать, — сказал он, можно было бы весь храм целиком перенести в музей.
— Вы смеетесь, — сказал я.
Человек не смеялся. Лицо у него было злое. В разговор вмешался третий: юноша в синей майке. Он стоял, скрестив голые руки.
— Такое старье в музей? — спросил он.
— Это культурное наследие, сказал человек.
— К чорту старье! — воскликнул юноша!
— По-вашему все храмы надо уничтожать?
Кроме тех, которые имеют архитектурное значение. А это — что? Только деньги крали, когда строили. Самовар. Это самовар.
Юноша плюнул.
Плюнув, он отошел, пошел затем по мостовой, зацепил ногой что-то валявшееся, подкинул, стал насвистывать. Стояли гуськом круглые деревья... Он пошел под ними. Подпрыгнул, оторвал лист, пошел, высоко поднимаясь на носках. Потом бросил лист. Лист остался на чистом асфальте.
Ветер передвинул его. Я пошел за юношей. На углу в зеленой будке продавали цветы. Юноша задержался. Подоспел я.
Юноша спросил, почем гвоздики. Он ничего не купил. Продавец цветов подмигнул мне. Я не ответил. Юноша оглянулся на будку. Увидел меня и крикнул:
— Чудак, а? Такую дрянь в музей?
И протянул руку в сторону храма.
Юноша пошел по Пречистенскому бульвару. Я не упускал его из виду. Он был худ и высокозад. На нем были тоненькие штаны. Он был бос. Узкая майка обтягивала туловище, так же и ноги плотно были обтянуты штанами. И, должно быть, у него ничего не было в карманах. Он шел совершенно налегке, сильно декольтированный.
И без шапки.
В одном месте он остановился. Его заинтересовала собака. Это было так: очень старый человек в очень старой панаме и очень старой паре из белого шевиота сидел на скамье, поставив трость между, колен и сложив кисти рук на набалдашнике.
Перед ним и спиной к нему сидел бульдог.
Бульдог был могучий, зрелый, похожий на мужчину. Оба были неподвижны. Человек смотрел собаке в затылок, таким образом голова его была несколько опущена. Вид он имел понурый.

Юноша даже присел рядом. Я наблюдал с противоположной скамьи.
— Она не кусается? — спросил юноша.
— Нет, — ответил старик.
— Почему? — спросил юноша.
— Нет, — ответил старик.
Он не поворачивал лица к собеседнику.
Оно висело пустое, серое в мелкую полоску, похожее на носок.
— Вы глухой? — спросил юноша.
— Нет, — ответил старик.
Юноша поднялся и пошел своей дорогой. Гравий лязгнул под его ступней. Бульдог повел бровью.
Мы вышли к памятнику Гоголя.
Юноша вприпрыжку побежал к трамвайной станции.
Через минуту я увидел его на крыше вагона. Уж он был в перчатках. Красноголовые кондукторши кричали ему снизу. Вагоновожатый стоял на тротуаре, держа в руке сверкающий рычаг.
Юноша ходил по крыше, становился на одно колено, ложился на спину. То поднималась, то опускалась дуга, легкая, как цифра.
Я не следил, какими путями юноша слез с крыши. Он вдруг исчез из-под моего наблюдения. Но вскоре я вновь увидел его.
Он сидел на бревенчатой скамье под стеной станции и разговаривал с человеком в тужурке. У того на коленях покоилась дыня. Вокруг летали мухи. Здесь место было нечистое. Под скамьей валялась всякая дрянь. Солнце жгло немилосердно. Человек в тужурке встал и пошел через площадь, неся дыню на ладони, вынесенной несколько в сторону. Рука его приняла поэтому форму выкрутаса. Юноша пошел по Никитскому бульвару.
Здесь ничего примечательного мы не встретили. Если не считать слепого. Слепой передвигался без посторонней помощи. У него была палка. Она стала его составной частью, хоботком, чувствительным электрическим прибором. Он держал ее впереди себя, на весу. Она качалась, как маятник. Иногда он как бы макал ею в пространство, под ноги. Он был высок и электрически прям. Он шел без головного убора и был плешив. Плешив по-офицерски. Он перешел улицу точно на перекрестке и стал под стеной у магазинной двери. Это было его постоянное место. Он вынул из кармана жестяную кружку, затем застыл с кружкой впереди живота. Проходя, мы увидели его в профиль. Его слепой твердый глаз выпячивался под закрытым веком, как кубик. В кружку капнула с громом монета. Он наклонил голову и вновь выпрямился вдоль стены.
Было три часа дня. Так показывали часы над площадью. Юноша направился по Малой Никитской. Я предположил, — что цель его путешествия — зоологический сад. Я не ошибся. В саду к нему присоединилась девушка в синей майке. Оба был в синих майках. У них было назначено свидание. Они тотчас же обняли друг друга за плечи и пошли, и, когда я шел за ними, их руки — у одного правая, у другого левая — положенные друг другу на плечи образовывали некое коромысло. Они шли раскачиваясь, как ведра.
На мураве стоял лось.
Они остановились у проволочки.
Лось тяжело, как запряженная лошадь повернул к ним голову. Громадный дуб раскинулся над ним. Валялись жёлуди. Я поднял один. Это было очень тонкое изделие. Мгновенно отделилась филигранная чашечка. Жёлудь приобрел тяжесть пули. Чашечку я надел на мизинец.
Вдруг лось пустился галопом. И вдруг резко остановился. Теперь он стоял вне тени и сам бросал чудовищную тень. И я посмотрел на его рога, он метнулся в мою сторону, и я отпрянул, потому что рог его были велики и тяжелы, как весла.
Те двое засмеялись. Однако она вскрикнула, так как укололась о проволоку.
В дальнейшем видели полярных медведей. Они расположились на искусственных глыбах. Один ушел в голубую воду. Внезапно пророкотал вдали гром. Медведь поднял голову, точно полоскал горло. Они ходили, стуча когтями.
Надвигалась гроза.
Сад пришел в шевеление.
Но сквозь прутья я увидел неподвижного орангутанга. Он лежал навзничь раскинутыми руками в тепличном полу мраке то ли на гамаке, то ли на дереве Толпа осаждала его жилище, и никому не удалось увидеть что-либо, кроме затылка в золотых лисьих волосах и ладоней, мягко разогнувшихся, как будто они только что выпустили книгу. Его окружали листья и бамбукообразные тени прутьев. Толпа ждала его движений. Но он спал.
Я потерял влюбленную пару.
Полнеба охватила тьма.
Листва стала цвета магния.
Я бежал с толпой к выходу.
Сквозь узкий выход мы выдавливались из сада, как из бутылки (мне нравится это сравнение в духе Рабле. Однако я думаю, что довольно сравнивать. Рассказ перегружен сравнениями. В конце концов каждая вещь на что-нибудь похожа. Впрочем, настоящий рассказ представляет собой упражнение в реалистической описательной манере).
Итак — сквозь узкий выход мы выдавливались из сада, как из бутылки. В трамвай я не попал. Дождь загнал меня в подворотню. Вода прибывала. Я пятился. Она зацепила меня. Я поднялся на приступочку. Дождь звенел. Напряжение его менялось. Вода, затекавшая в подворотню, наоборот, была вялой. Она медленно несла на себе кое-какие вещи, мусор, листья.
Дождь затих.
Где-то появилось солнце.
В моей луже волшебно отразился кусок кирпичной кладки. Во дворе распахнули окно. По улице, танцуя, пробежали люди.
Но звон продолжался. Это во дворе из водосточной трубы хлестала вода. Я заглянул.
Это была новая труба, цинковая, осыпанная звездами. Наконец, пробираясь по деревянной обочине, я выбрался на улицу.
Я посмотрел на небо. Там сияли снежные Альпы. Тучи, громоздясь, оседали на запад. И вдруг я увидел колесо радуги.
— Радуга, — прошептал я.
И еще рядом прошептали:
— Радуга.
И смотрели из окон на радугу.
— Где, — спрашивали: — радуга?
— Вот, — отвечали: вот радуга.
Потом я очутился за домами, по ту сторону их. Я шел по траве. После дождя почва размякла, ноги вязли. Передо мной развернулась панорама, вид на железную дорогу, на поля. Провинциальные домики стояли на краю обрыва. Я пошел под стеной. Громадные деревья возвышались над ней. Что отгораживала стена? Может быть, санаторий? Или какой-нибудь питомник?
Или родильный дом?
Я обогнул стену и увидел вдали Храм Христа Спасителя. Я дошел до того места, где в стене был нишеобразный вход в таинственный сад. У входа стояла группа.
— Я не представляю себе Москвы без храма спасителя, сказала женщина.
— Сколько пудов золота, сказал некто в фартуке.
Они посмотрели на меня.
— К чорту старье, — сказал я.
Они ничего не ответили. Я прошел мимо, они молчали. Под обрывом стоял автобус.
Здесь была конечная станция. Часы показывали шесть. Я поднял прутик и отряхнул с башмаков жирную грязь. Затем автобус привез меня в город.
Я попал в толпу у Дома союзов.
Подъехал автомобиль.
(О чем это, в конце концов, рассказ? О разрушении храма? О выходном дне юноши-трамвайщика? Или о радуге? Здесь даётся просто ряд описаний).
Подъехал автомобиль.
(В этом рассказе описан слепой. Сказано, что глаз слепого — твердый, слепой глаз — выпячивался под веком, как кубик.
Иногда глаз слепого напоминает раздавленную клюкву. Замечательной подробностью для рассказа — с целью оживления ландшафта — может быть группа слепых музыкантов. Они приближаются издали по загородной дороге - трое. Вы сперва слышите звук гармоники. Потом вы видите: один из них гармонист. Они в картузах.
Тут вы замечаете главное: гармонист держит гармонию на животе, распускает ее по животу, и так как вы смотрите издали, то вам кажется, что это не гармония, а красный жилет на гармонисте-красный жилет с серебряными пуговицами).

Итак — подъехал к Дому союзов автомобиль.
Из автомобиля вышел старик. И за ним вышла свита. Старик был высок и строен.
Через плечо шел у него ремень. Он что-то говорил, размахивая руками. Не по-русски белели манжеты. Он лучисто улыбался.
У него была легкая, перистая борода.
— Да здравствует Бернард Шоу! — закричал кто-то.
Это кричал тот самый юноша.
Он ударял в ладоши.
Девушка обнимала его одной рукой за шею, а другую держала у собственного лица, потому что сосала палец, уколотый в зоологическом саду.
Когда приехавший был поглощен домом, я подошел к влюбленным.
— Вот старик так старик, — сказал юноша.
— Но вы же сказали, что все старье нужно уничтожать, — возразил я.
— Кроме того, что имеет историческое значение, — ответил юноша.
***
Юрий Олеша. Художник: Юрий Пименов. Публикуется по журналу «30 дней», № 10-11 за 1931 год.
Из собрания МИРА коллекция