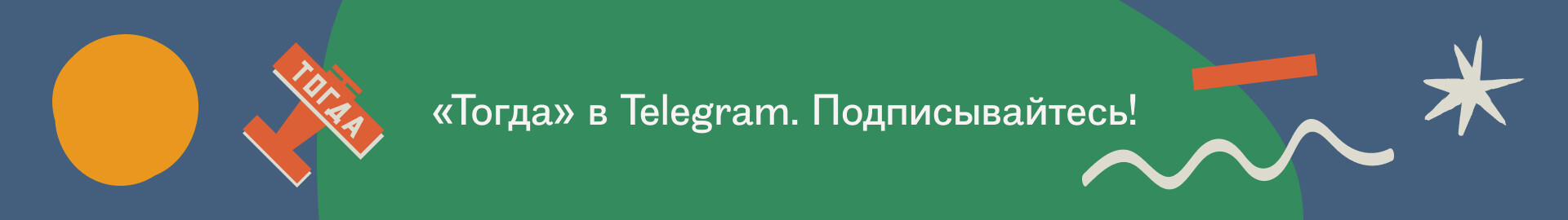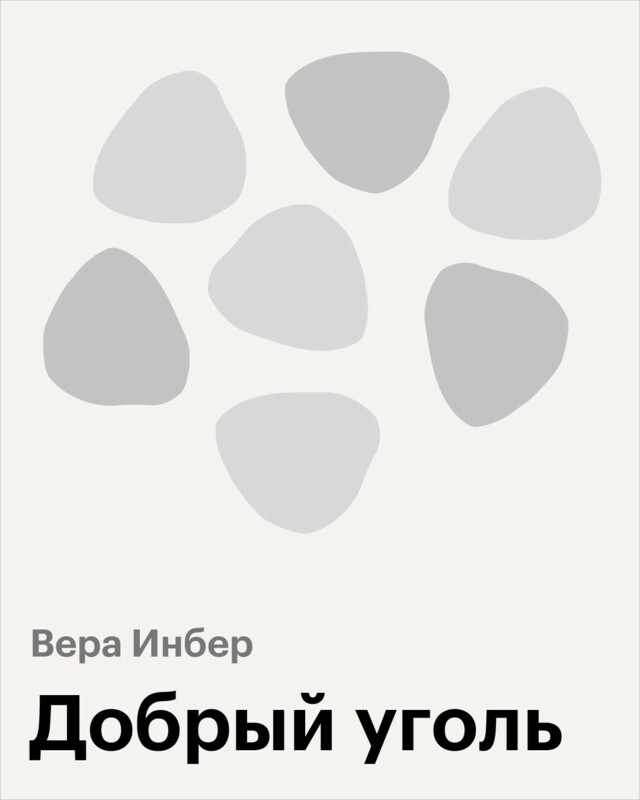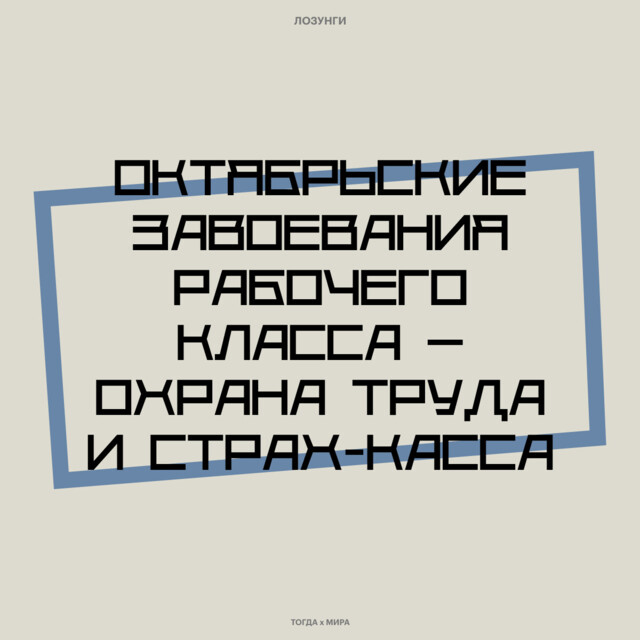«Товарищ Сакинэ». Юрий Слёзкин

1.
Восемнадцатого мая 1920 года советский флот, преследуя белых, занял Энзели, принудив английские войска к поспешному отступлению. Наше командование, очистив порт и все южное побережье Каспийского моря от англичан и тем лишив их возможности организовать отсюда новое нападение на советские республики, было заинтересовано лишь в охране подступов к Каспийскому морю и к своим закавказским границам, а потому не развивало дальнейшего наступления. Красные отряды расположились частью в самом
Энзели и по побережью, частью прошли озером Морд-Ап и рекою Пир-Базар к городу Рэшту.
Моя часть получила стоянку в местечке Пир-Базар, расположенном на реке того же названия, и здесь в мирной обстановке, давно мною забытой, среди доселе незнакомого народа, мне довелось провести несколько месяцев.
Наш политрук уроженец города Баку, поселившийся со мной на одной квартире у садовника и владевший персидским языком, вел агитационную работу, я же — немой в этой стране — большую часть дня предавался праздности, гуляя по местечку и его окрестностям. Персы — народ хитроватый, но добродушный, поглядывали на «товарища-уруса» с любопытством, но без враждебности. Они скалили зубы, растягивая вишневые губы в улыбку, и кивали черными своими островерхими барашковыми шапками в знак дружеского приветствия. Иные из них показывали рукою на юг, потом, будто прицеливаясь из ружья, вскрикивали:
— Пуфф! Энгли! Пуфф! что значило: «стреляйте в англичан гоните их дальше».
Они никак не могли понять, почему одолев противника мы не преследуем его. Политрук, товарищ Абаньян, пытался растолковать им это, но, кажется, напрасно.
— Англичанина нужно бить! Англичанина совсем не нужно в Перcии — говорили они ему.
Это был бедный темный народ, весь день занятый в поле и в садах, арендуемых у бузургуна, которому шла большая часть урожая. На рисовых полях, залитых водою, с утра до ночи возились женщины, мужчины охаживали в садах тутовые деревья, вдоль реки (как и у нас на Волге) киржимщики тянули лямку.
В четыре часа утра едва белел восток и первые горячие лучи солнца длинными широкими лентами тянулись вверх — раздавалась клокочущая песнь муллы.
Я вслушивался в нее с сонной улыбкой и тотчас же чувствовал, что что-то скользит у меня по лбу, прикасается к плечу, слегка раскачивает голову. Настойчивый тоненький комариный голос перебивал песню:
— Сааб-урус, вставай, пора чай пить!
Я открывал глаза и видел крохотную пухленькую, бронзовую ручку, гладившую меня по голове, широко надрезанные агатовые глаза, чертенятами лукаво заглядывавшие мне в рот, вишневые зубы, что-то лепетавшие по-непонятному.
Это моя маленькая Сакинэ пришла будить своего приятеля — «сааба-уруса».
2.
Я сам себе задаю сейчас вопрос — почему именно из ряда событий, прошедших перед моими глазами в те героические дни — этот незначительный эпизод выбрал я темой своего рассказа? Почему из многих сотен любопытных и примечательных лиц я остановился на крохотном личике четырехлетней Сакинэ? Почему знакомство с нею в ряде страдных боевых лет оставило по себе неизгладимое воспоминание, хотя в сущности оно менее всего имеет на это право, так как тогда ровно ничего не произошло. Вы в этом сами сейчас убедитесь.
На второй день после прибытия в Пир-Базар я заметил в саду нашего ханэ у бассейна крохотную девочку-персиянку. На ней были широкие черные шальвары, очень коротенький повыше колен тумон с бесчисленным количеством складок и кисейный пирхан, доходивший только до пояса. Этот обычный наряд взрослой женщины показался мне особенно забавным на девочке, смотревшей на меня исподлобья, испуганным взглядом потревоженного зверька. На мой зов девочка стремительно кинулась прочь к шалашу садовника, шлепая красными без задков туфлями.
Несколько часов спустя, когда я проходил мимо того же бассейна, крошечная персиянка уже не спасалась бегством. Она осталась на месте без опаски. Тогда я вернулся домой и через минуту предстал перед ней, держа в одной протянутой руке кусок сахару, в другой — серебряную монету. Опустив длинные иссиня-черные ресницы и все еще пряча за спиною рученки, девочка подвинулась ко мне бочком, выждала мгновенье и внезапно одним движением вырвала протянутые дары. Улыбаясь, я остался недвижимым. Дикарка подняла глаза, улыбка моя перешла на ее губы, она сморщила нос и рассмеялась. Дружеский договор можно было считать подписанным.
Сидя у меня на коленях, девочка назвала себя Сакинэ, знаками объяснила мне, что ее ханэ находится здесь же, в углу сада, затем попыталась рассказать мне еще что-то о своей особе, чего уж я никак не мог понять.
На бронзовом горячего оттенка лице ее одни только влажные матового блеска глаза, глядевшие грустно, несмотря на улыбку — были чисты. Нос, рот, подбородок, уши давно уже не видали мыла. Черные вьющиеся волосы туго были заплетены в маленькие косички, падающие ей на лоб и затылок спутанным пыльным комком. Острый запах зверка шел от ее загорелого тельца и платья. Приподняв верхнюю полную губу и наморщив тонкий, безукоризненной формы, нос, девочка грызла сахар и стрекотала по-сорочьи.
Под вечер к нам на крышу явилась бабушка Сакинэ, старуха Мирилэ, в сопровождении своей внучки и принесла пешкеш — на медном подносе пирамиду первых абрикосов.
Старуха сделала для нас исключение и пила предложенный ей чай из нашего стакана, не считая его — нэджис. Но в комнату все же не вошла, оставаясь на крыше. Она рассказывала нам печальную историю сиротства Сакинэ, а девочка, взгромоздясь на стул и поджав под себя ножонки, исподлобья поглядывала то на меня, то на товарища Абаньян.
— Ах, сааб, — говорила старуха, раскачиваясь из стороны в сторону под своим черным покрывалом, похожая на жирного таракана: — беда, беда нам! Трудно жить, трудно жить
У меня есть еще сын Гуссейн и жена его Локио и еще есть сын. Загидер, и все они работают в саду и в поле, а что мы имеем? Бузургун все берет себе, и еще берет, и еще берет; а нам ничего не остается.
И Сакинэ еще маленькая —ей нет шести лет, она не может ткать ковры, как другие дети. А сейчас идет война, и шах недоволен нами, а народ недоволен шахом, и идет большой шулук. Вот я беру кусок хлеба и клянусь на нем, что никогда так не было плохо, как теперь.
Товарищ Абаньян, переведя мне ее слова, подмигнул глазами.
— Хитрая старуха, — сказал он: — она ждет от нас хорошей платы за свой подарок!
И, прищелкнув языком, добавил сокрушенно:
— Не скоро еще забудут они свои рабьи повадки! Где уж тут классовое самосознанье!
И неутомимый агитатор стал поспешно что-то объяснять растерянной старухе.
3.
У меня навсегда останется в памяти тот день, когда я впервые показался на улице Пир-Базара вместе с Сакинэ. Семеня своими маленькими ножонками, на которых похлопывали ее потешные туфли, и держась всею рукой за мой мизинец, она шла рядом со мной и серьезно о чем-то рассуждала.

Такое зрелище всполошило всю улицу: на нас устремлены были со всех сторон любопытные, недружелюбные глаза. Девочка-магометанка в сопровождении нечистого, который вдобавок держит ее еще за руку—явление небывалое, настоящее святотатство.
Встречные персиянки, останавливаясь, раскачивали головами под своими чадурами, точно большие черные гуси при виде собаки.
Гуляя с Сакинэ, я вел с вей долгие беседы, комбинируя как попало сотню знакомых мне персидских слов, а девочка, снисходительно улыбаясь, внимательно меня выслушивала, то и дело поправляя мою речь. Сама она очень любила болтать, и я не знаю, как это случалось — но я всегда понимал ее, настолько были выразительны ее мимика и жесты.
Мы стали с нею неразлучны. Сидя, подобрав под себя ножонки, на ковре у моих ног, Сакинэ то возилась со своею любимою кошкою, то царапала карандашом по бумаге, то, сложив на груди ручонки и раскачиваясь медленно из стороны в сторону, зажмуря глаза — тоненьким голоском выводила какую-то заунывную песню, а устав — сваливалась тут же на ковер и засыпала, вкусно посапывая носом.
Когда мне случалось уезжать в Рэшт или Энзели, что бывало довольно часто, Сакинэ всегда старалась отговорить меня от поездки, а когда и это не помогало — хватала мои ноги своими ручонками, плакала и не пускала. Поэтому часто я уходил из дому украдкой. Возвращаясь домой, я всегда находил Сакинэ у порога нашей комнаты — она целыми часами ждала моего возвращения. Иногда я заставал ее спящей на ковре, но не иначе как у самого порога и в таком положении, что можно было войти в комнату только лишь переступив через нее.
При моем появлении она почти всегда просыпалась. Ёе черномазая мордочка улыбалась, глаза блаженно и хитро щурились — она была уверена, что в карманах «товарища-уруса» для нее что-нибудь припасено или шекль ференги или джураб-ференги, или гейтунэ, и уж во всяком случае ширинэ.
— Ну, и чертенок эта девчонка, — сказал мне однажды товарищ Абаньян, — ее уже не засадят в гарем, помяни мое слово. Сегодня утром иду по саду, а она мне навстречу: —
«Ты, — спрашиваю, —куда?» — «К своему приятелю, — отвечает, — я теперь часто бегаю к нему и хотя он урус, но я его очень люблю.» — «А ты посиди-ка со мной, — говорю, — зачем тебе бежать к урусу? Полюби лучше меня... Я тебе принесу много ширинэ, а когда ты вырастешь большая — возьму тебя замуж.» Так ты знаешь, как она мне отрезала? —«Проваливай от меня подальше! Я сама знаю, какой мне нужен муж. Товарищ-урус будет мой муж!»
4.
Как-то я принес папиросы в пестрой коробке, бросил их на стол, а сам отправился куда-то по делу. Возвратясь, я заметил, что Сакинэ играет пустой коробкой, но папиросы куда-то исчезли.
— Сакине, куда ты девала папиросы? — спросил я ее.
— Я выбросила их за окно, — невозмутимо отвечала девочка, продолжая свое занятие и даже не поворачивая головы.
— Но ведь ты знаешь, что я курю их, —запротестовал я, — это нехорошо, Сакинэ.
Она нахмурила брови, мотнула косичками и, пожав плечами, возразила:
— Только дым будешь делать в комнате.
Тогда я сел на стул и произнес медленно и строго:
— Нехорошая ты девочка, Сакинэ, и не умная. Если ты еще раз так поступишь, я не пущу тебя больше к себе в комнату.
Она быстро повернула ко мне лицо — глаза ее сверкнули.
— Это дом наш, а ты проваливай себе за море. «Боро сафират урус!» — резко произнесла она, указывая мне рученкой на дверь.
Я сделал вид, что не заметил этой выходки, и уселся читать газету. Через пять минут Сакинэ куда-то исчезла и вскоре появилась, придерживая подол своей коротенькой юбки. Войдя в комнату, она вынула из подола папиросы и сложила их на столе. Я продолжал читать с подчеркнутым вниманием.
— Вот твои папиросы, — сказала она, толкнув меня под локоть.
Я мельком взглянул на нее и молча снова уткнулся в газету, точно бы не замечая ее присутствия. Сакинэ попробовала заговорить со мной, но я упорно хранил молчание, искоса поглядывая на нее. Ей не сиделось на месте. Она то садилась, то опять вскакивала, вертелась на одном месте, теребила косички, не знала куда деться... Наконец, чувствуя свое бессилие, она медленно направилась к двери с твердым намерением уйти совсем, но уже у самого порога внезапно круто повернула, подошла ко мне и уселась на ковре у моих ног, на любимом своем месте. Она оперлась о мою ногу, съежилась и через мгновение я услышал тихие всхлипывания.
Я нагнулся к ней. Сакинэ приподняла голову. Из-под ее длинных блестящих, загнутых вверх ресниц катились обильные крупные слезы. Полным отчаяния взглядом она словно спрашивала меня: «долго ли ты будешь меня мучить?» Я приподнял ее и посадил к себе на колени. Сакинэ обняла своими бронзовыми лапенками мою шею — и мир был восстановлен, без всяких прелиминарных конференций.
5.
Однажды, по случаю какого-то мусульманского праздника в шалаш садовника собралось около десяти персиянок— родственниц и подруг Локио. Не подозревая этого, я зашел за Сакинэ, которая почему-то не явилась ко мне утром.
Я застал ее сидящей на ковре среди других женщин, разместившихся вокруг огромного круглого медного блюда, доверху наполненного дымящимся жирным пловом. Каждая из сидящих по очереди сгибалась над блюдом, быстрым движением руки подхватывала пальцами щепотку риса и, запрокинув голову, отправляла ее в рот.

Я остановился в дверях, не зная, как быть. Заметя меня, женщины торопливо стали натягивать свои чадуры, а молодая хозяйка в смущении приподнялась на колени. Не пригласить меня хотя бы из вежливости было бы крайне неловко, пригласить же —значило бы нарушить закон... Наступила мертвая тишина. Но тут Сакинэ вскочила на ноги, подбежала ко мне и, схватив за руку, потянула за собою.
— Это моя, баджи-азис (милая сестрица), — пусть ест с нами.
Гордиев узел был разрублен. Шутя, я уселся между двумя более почтенными персиянками, засучил рукава и, преспокойно запустив руку в блюдо, начал уписывать вкусный плов.
Вся компания расхохоталась и мирно продолжала свой завтрак.
— Сакинэ скоро всех наших женщин научит не бояться мужчин, — сказала Локио, и все в один голос ответили ей:
— Если бы так было...
А Сакинэ захлопала в ладоши, прыгая вокруг нас и крича:
— Мы все товарищи! Мы все товарищи! Как в Руссистан!
Потом все замолкли, жадно слушая мою запинающуюся, нескладную речь о том, что делают женщины в далеком прекрасном Руссистане.
— Ты только не смей выдавать нас, — боязливо оглядываясь, говорила Локио, — нам нельзя слушать такие слова.
А Сакинэ хмурила брови, морщила свой тонкий носик и, скаля зубы, возражала:
— Я ничего не боюсь.
Тогда я спросил ее:
— Слушай, Сакинэ, а что, если я заберу тебя в Руссистан? Ты не испугаешься? Не станешь плакать?
Сакинэ поморщила лоб и степенно ответила:
— Об этом нужно хорошенько подумать...
— Ох, и не говори, сааб! — подхватила тотчас же бабушка Мирилэ: — достаточно только, чтобы наши мусульмане услыхали такую речь, и ты не знаешь даже, какая беда может стрястись над нами!.. Пусть лучше Сакинэ не слушает тебя и не повторяет твоих слов. Они не только убьют нас, они растерзают нас на куски, да и тебе, добрый наш сааб, не сдобровать. Я привыкла смотреть на тебя, как на отца, которого всемогущий аллах ненадолго послал Сакинэ. Я думала, нет у Сакинэ ни отца, ни матери, так я стараюсь заменить ей мать, а ты отца.
6.
После того, через день, старуха Мирилэ пришла ко мне и, усевшись на порог, стала вздыхать.
— Что с тобой, Мирилэ? — спросил я, удивленный ее молчанием.
— Я даже и не знаю, как начать. Видишь ли, нехорошо человеку жить холостым — это великий грех! На такого человека земля жалуется небу. Отчего бы тебе не жениться? Вот здесь, через дом живет один бузургун — дочь у него одна, пятьдесят тысяч туманов приданого... Жил бы ты среди нас счастливо, незачем бы тебе возвращаться в твой ференистан...
— Как же это, баджи-азис, за меня, за ференга, за уруса, неверного выдадут персиянку? — спросил я, стараясь показать вид, что не понимаю, куда она клонит.
Старуха осторожно подняла голову. Глаза ее встретились с моим улыбающимся взглядом, — она поняла, что я знаю тайный смысл ее речей, и в то же время догадалась, что сражение проиграно. Тем не менее, ободренная моей невозмутимостью, она все же с восточным лукавством еще раз попытала счастья:
— Отчего бы тебе, сааб, — начала старуха сладким голосом, — для спасения твоей души не сделаться магометанином? Пятьдесят тысяч приданого, молодую жену и Сакинэ взял бы ты к себе... Ведь ты любишь Сакинэ? Подумай о ней! Зачахнет она здесь без тебя... ребенок привязался к тебе — все видят это...
Ну, мы и решили, что тебе бы хорошо. было остаться среди нас...
Нужно тебе знать, сааб, что каждый принявший ислам считается новонародившимся, безгрешным, невинным человеком. Выйти замуж за такого человека — святое дело... большая честь для каждой персиянки! И если бы ты пожелал, то мог бы иметь пять-шесть жен на выбор, знатных, богатых да красивых...
Оборвав свою речь, Мирилэ взглянула на меня исподлобья и снова опустила голову.
Я попытался ответить ей так, чтобы отказ мой не показался обидным.
— Благодарю тебя, милая Мирилэ, за твой совет, — начал я: — уверен, что ты желаешь мне добра, но лучше пусть каждый из нас останется при своем... Твоя вера ничуть не хуже другой какой-нибудь веры, а может быть даже и лучше, но должен тебе признаться — я не хочу знать никакой другой веры, кроме веры в человека и его разум...
Старуха испуганно глянула на меня, торопливо поднялась и, прикрывшись чадуром, мелкой старческой походкой поплелась в свой шалаш. Она уверена была, что урус смеется над ней.
7.
И вот пришел день отъезда. Не желая заранее огорчать Сакинэ, я ничего не сообщил ей о своем отъезде, но от ее внимания не могли ускользнуть наши сборы, да, вероятно, она слыхала об этом в своей семье. Растерянная, бледная, с большими черными глазами, словно ушедшими вглубь, глядевшими хмуро и сосредоточенно, ходила девочка по саду, боясь заговорить со мною и приласкаться.

Был пасмурный вечер, единственный за все наше пребывание в Персии, когда мне пришлось проститься с Сакинэ, — кто знает, быть может навсегда. Сидя во дворе на опрокинутом ящике, я — подозвал к себе Сакинэ, стоявшую у бассейна.
— Иди же ко мне, поцелуй меня, — сказал я, — два дня ты не подходишь ко мне, огорчаешь своего товарища-уруса. Чем я тебя обидел?
Она не ответила, не пошевелилась.
Товарищ Абаньян возился с лошадьми, увязывая вьюки. Нас окружала вся семья садовника и несколько рабочих. Здесь же стоял и ахунд. Он сочувственно качал головой.
— Жаль, что наши законы не дозволяют тебе, сааб, взять девочку и удочерить ее, — обратился ко мне вполголоса садовник, искоса поглядывая на ахунда.
Но в тот же миг раздался душу раздирающий крик:
— Нэмихам! Нэмихам!
И Сакинь кинулась ко мне, судорожно схватила меня за шею и прильнула к груди.
— Нэмихам! Нэмихам! — повторяла она хрипло.
Глаза ее были сухи и дики. В них горел такой огонь, какой я видел только в глазах фанатиков-дервишей в дни Магорема.
Внезапно она отпустила меня, все ее маленькое тельце вытянулось и напряглось как тетива, она повернулась к ахунду и с ожесточением стала осыпать его ноги ударами своих маленьких бронзовых кулачков.
— Нэмихам! Нэмихам! Я не останусь с вами!
С трудом удалось мне оттащить ее от растерявшегося муллы и, поцеловав в лоб, передать с рук на руки садовнику.
Красноармейцы смотрели на нее с восхищением. Женщины волновались.
Старуха Мирилэ сказала печально:
— Ты прав, сааб... Прости меня, старую... Но наш народ вовек не поймет тебя... А все-таки жаль девочку! Ты сделал бы для нее много добра в жизни.
Садясь на лошадь, я ответил:
— Не бойся, старуха, — она сама сумеет постоять за себя... Она уже не наденет чадура и не позволит запрятать себя в эндерум... Если ты доживешь до той поры — то увидишь.
Лошади тронулись. Гассан высоко поднял на руках своих Сакинэ. Лицо ее было залито слезами, но голос звучал звонко:
— В добрый час, товариш-урус! — кричала она мне: — товарищ Сакинэ никогда тебя не забудет...
Мы ответили ей хором:
— До скорой встречи, товарищ Сакинэ!
Кони круто завернули в узкий боковой переулок, звякнули копыта о серые плиты, густая яхонтовая пыль окутала нас.
Юрий Слёзкин. Рисунки: Мечислав Доброковский. Публикуется по журналу «30 дней», № 08 за 1926 год.
Из собрания МИРА коллекция