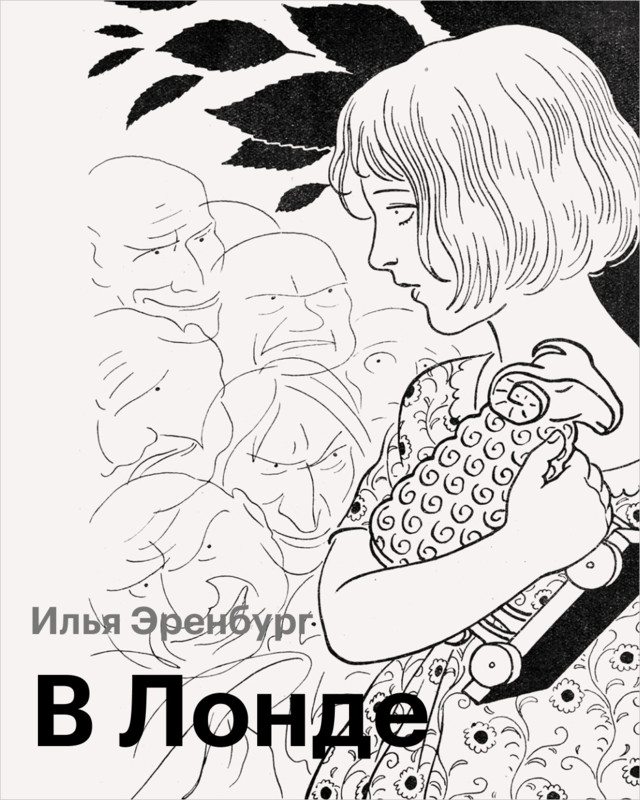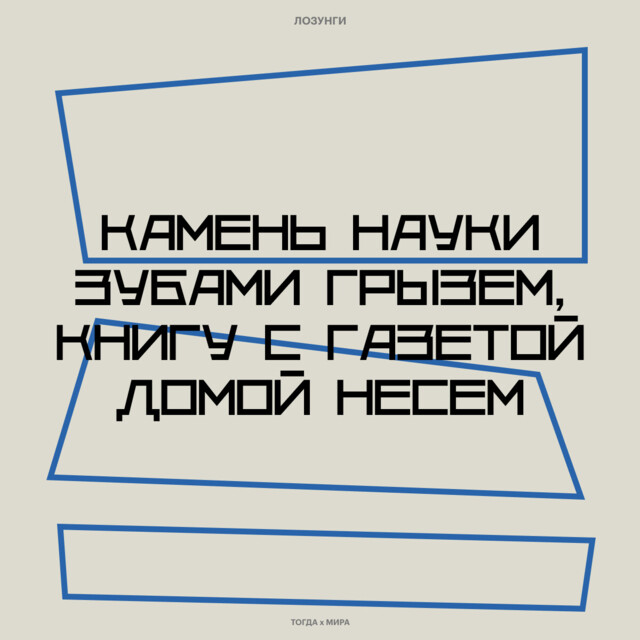«Волжские города». Лев Нитобург

1.
Может быть единственное, что осталось от старого Рыбинска неизменным, — внешний облик волжского грузчика. Он спит тут же на берегу, раскинув руки, в лохмотьях. Это с виду живописно, а в сущности, печально. Говорят, — грузчики —самый трудный участок культработы. Вероятно, правда, но из этой правды не сделаны выводы.
А вот деревенские парни-сезонники, целое воинство с узлами за спиной, с пилами—катальщики, пильщики, ежегодный деревенский посыл.
Вся ватага уверенно топает по сходням, деловито поднимается в город, — им приготовлен ночлег, они знают, где будут работать, и если их задержит, помешает какая-нибудь неполадка, то даже самый серый и веснущатый Афона в лаптах и тот сурово ощерится!
— Кончь волынить—это тебе не старый режим!
В сумраке порт кажется пустынным, замершим. Здесь проводились большие работы, углублялось русло, строились доки, тратились немалые деньги в то время, о котором толстомясые рыбинские обывательницы говорят с сожалительным вздохом.
Знаменитый «Рыбинский караван» судов простирался от пристаней на целые километры, баржи стояли рядами, в горячее время — на двадцать рядов.
А владельцы барж переполняли биржу, примеривались к ценам, надували друг друга, продавали, покупали, играли на повышение и на понижение, наживались, набивали карманы мужицким трудом. Тысячи тонн этого труда, пота, нужды, овеществлённые во ржи и пшенице, сотни тысяч тонн полновесного спелого зерна переволакивались, сгружались, засыпались в закрома, амбары, элеваторы, нагружались в вагоны, отправлялись в Питер, в Балтийские порты, за границу.
Сотни тысяч крестьянских трудовых дней прогуливались, пропивались в рыбинских кабаках, и о них-то: о «веселых домах», о цыганках и «арфистках», наезжавших сюда на гастроли из Нижнего, Саратова, Москвы, о скандалах с битием половых и зеркал, о громовых дебошах, зверином купеческом веселии воздыхают рыбинские «патриоты».
Теперь в здании биржи — больница, а Волга свободна, — баржи не покрывают ее десятком рядов; город тих, провинциален, будничный советский городок.
Но если не быть доверчивым, если проверить и взвесить обывательские вздохи, то окажется, что в лучшие годы в Рыбинске выгружалось до одного миллиона тонн хлеба. А теперь выгружается не на много меньше — 800 тысяч тонн, в этом году собираются догнать до миллиона.
Без шумихи, без биржевого ажиотажа, скоро и споро разгружаются теперь баржи тотчас по приходе. Плановое хозяйство сделало ненужной суету прошлого, — тишина городка обманчива.
Обыватели же — из бывших купцов и их прихлебателей — тоскуют по минувшим барышам, по франтоватым купчикам и дебелым купчихам, по тысячным рысакам.
Ничего этого, конечно, не будет, — было — прошло, быльем поросло. Рыбинская толпа одевается скромно. Рабочие с «Металлиста», со спичечной фабрики «Маяк» прохаживаются семейственно, с женами и детьми. К пристани подваливают «дачные» пароходики, привозящие парней и девушек из Песочного, с фарфоровой фабрики, и из Мологи, с судостроительной верфи.
В доке снастятся суда, — «СЛИП» делает свое дело — ремонтирует, чинит.
С Рыбинска революцией сняты румяна, мишура купеческого разгула; у города скромно-деловое лицо, а вечерами, когда зеркальна Волга и не шелохнутся на тоненьких нитках бабочки березовых листьев, — в благодатные эти вечера усталый город отдыхает спокойно и непосредственно.
2.
Подъем от речки Уводи к «Посаду» — самая нарядная часть Иваново-Вознесенска, с подобием бульваров по обеим сторонам, с серой красивостью зданий музея.
Но это великолепие простиралось всего лишь на несколько десятков метров, показная красивость, прихоть ивановских фабрикантов, по правде сказать, довольно безвкусная.
Дальше, по краям жесткой булыжной реки, избитой грузовиками, подводами, автобусами, начинались двухэтажные дома, садики, провинция — глушь.
Теперь не поймешь сразу; везде деревянные ограды, мостки временных тротуаров, леса, кубы кирпича.
Из-за этой строительной неразберихи выглядывают фундаменты и стены, и кое-где уже высятся оконченные четырех- и пятиэтажные корпуса.
В индустриальном нагромождении зажаты оазисы садов: сад совторгслужащих, сад текстилей, сад строителей.
В воронках ворот их беснуются водовороты толпы. Совсем нелегко погожим вечером пробраться мимо ларьков с нехитрым едовом, мимо мороженщиков и папиросников, мимо окошка кассы, чтобы попасть в сад.
Французские каблуки, лакированные полуботинки и туфли, цветистые галстуки, белые сетки «апашей», новенькие голубые, розовые, желтые, телесного цвета чулки, выутюженные брюки, — молодое Иваново хорошо одевается. Здесь нет шелков и фланели, по которым тоскуют рыбинские обывательницы, здесь умеренное франтовство, всецело определяемое швейной фабрикой кооперации, «Скороходом», Ивановским гумом, магазином «Ленинградодежды».
Разве можно сравнить это теперешнее франтовство с одеждой рабочих лет пятнадцать назад.
А ведь это показатель: клетчатый костюм, узорчатые носки, оказывается, ко многому обязывают: к чисто вымытой шее, к аккуратной прическе, к сдержанности в речах.
Хотя... насчет сдержанности; нецензурные словечки еще держатся в ивановских садах вместе с городской пылью, с духотой окружающих стен и отравляют ивановские повечерия.
На стенах, на оградах — афиши: гастроли рыбинского театра и ленинградской труппы «Пролетарский актер», кинобоевики, цирковые гала, программы и вечера заезжего декламатора, — от Пушкина, Блока—к Маяковскому, Багрицкому, Жарову.
В Иваново серьезные гастролеры ездят уверенно — зал будет полным-полнехонек. Здесь будут слушать, затаив дыхание, доклад о пролетарской литературе и о радиотехнике, о полете Чухновского и о грядущей мировой войне.
Книжные киоски, магазины, ларьки торгуют вовсю.
В этой тесноте и толчее, в костюмах толпы, в напряженном внимании к театру и книге теснота строящегося центра, напряженность переходного периода, внимание рабочих масс, ведущих борьбу за социалистическое строительство.
3.
«Любая книга — 20 копеек!»
«Любая, книга — полтинник!»
Серебряная мелочь, медяки, замусоленные рублевые бумажки — не слишком большая пена за удешевленные книги, продающиеся в одном из уголков обширного Ярославского бульвара — на книжном базаре.
Между молодежью, быстро листающей страницы, подолгу стоят солидные очкастые бородатые люди — серьезные, озабоченные, и забираются внутрь киосков, за прилавки, и методически обследуют каждую полку.
Это — «любители».
Пожилой человек с дряблыми шеками, желтыми и складчатыми, роется в книгах:
— Будьте любезны, у вас ничего нет Мережковского?
Голос его скрипит и словно извиняется:
— А Василия Розанова? Нет? Оч-чень жаль: совсем порядочных книг не стало!
Кто он, этот «любитель», — бывший ли преподаватель гимназии? Или помощник прокурора, воспитанник здешнего Демидовского лицея? Или, может быть, бывший уездный предводитель из «просвещенных»?
Подхожу, потихоньку расспрашиваю продавца. Продавец не знает, кем был сей желчный мужчина до революции, а сейчас он служит в одном тихом учреждении, и от него, — увы! — зависит судьба мужика, у которого пала лошадь, или даже участь целой погорелой деревни.
По вечерам же, скинув личину совслужащего, он предается чтению реакционнейшей публицистики и «отдыхает душой» за мистическими бреднями Мережковского.
Поджарая женщина в пенсне и с бескровными губами просит:
— Поищите, пожалуйста, что-нибудь Крыжановской – Рочестер или графа Амори.
О, эти бесконечные романы Рочестер с живыми чертями и ангелами, со злыми духами, воплощениями, оборотнями, индусскими мудрецами, — это чтиво набожных старух, раскаявшихся уездных Клеопатр, компаньонок из «хороших домов»!
Продавец, молодой парень, не знает ни Рочестер, ни графа Амори.
— Какое невежество! Тогда дайте, пожалуйста, Чарскую.
Чарской тоже нет. Вместо нее продавец выкладывает на прилавок груду юношеских изданий «ЗИФ» и «Молодой Гвардии».
— Ах нет... Это все современные.
Как ненавистно поджимаются губы, как дрожит пенсне.
— Мне этого не нужно! Ведь я для себя.
Пятидесятилетняя «любительница» будет проливать злые бессильные слезы над Чарской, — точь-в-точь классная дама, — она уже отобрала себе томик Арцыбашева и приложение к «Ниве».
— Как жили! Как любили! Разве теперь могут прочувствовать, понять...
В Ярославле необыкновенно много всяких любителей.
Весьма многочисленную группу составляют любители «клубнички».
А в пивной еще одна разновидность «любителей» —хлещут на-пари целые дюжины.
Обилие любителей — показатель культуры. Какой? Смотря по тому, какие любители. У нас есть же радиолюбители, шахматисты, любители стометровки и кроскоунтри, тенниса, и тут же, в Ярославле, любители авиаспорта (кстати, сконструировавшие великолепную летающую модель).
«Внеклассовый уголок», широкий ярославский бульвар, только кажется таким мирным. На самом же деле здесь, и только здесь, «культура» господствовавшего класса еще пытается отравить и разложить наступающую культуру социализма,
Над Ярославлем теперь господствуют не храмы и ампирные помещичьи дома, не бульвары, а фабрики.
На одном «Красном Перекопе» — десяток тысяч рабочих. И, не заботясь о своих «позициях» на бульваре, эти рабочие заняты завоеванием более важных позиций.
Первый в России, основанный Волковым в 1750 году, дворянский театр канул в безвозвратность. Теперь в театре ставят современные советские пьесы.
Дворянский Демидовский лицей заменен вузом, в котором учатся рабочие; и в художественном техникуме, и в театральном, и в музыкальном тоже учатся пролетарские дети.
И если не судить по бульвару, если проехаться по прохладной вечерней реке к дальним огням «Ветки», где нефтехранилища на 950 тысяч тонн, где свистят паровозы с хвостами товарных составов, где грузится многомиллионная продукция фабрик, — если от бульварной жизни перейти к настоящей, — станет ясно, что ставка старого Ярославского «бульвара» бита.
4.
В начале кажется, что всё, наоборот. Заря полыхает совсем не с той стороны, с которой ее ожидаешь, и Волга словно течет обратно.
Кострома расположена на левом берегу, пароход приваливает, повернувшись как-то непонятно: вокзал железной дороги на другой стороне.
В центре города — огромная площадь. От нее лучеобразно отходят улицы, зеленые, тенистые. С площадью граничат другие площади и сад на «откосе».
Просторный город, широкий, привольный, — леса, церкви, дым фабрик, блестящая чешуя излучин реки Костромки.
Над откосом за новенькой деревянной оградой на высоком розовом постаменте — огромная фигура Ленина. Видна только простертая рука над берегом, над пристанями, фабриками, указывает в даль, — да козырек сдвинутой кепки, да развевающаяся и закаменелая пола пиджака.
Кострома еще тише, еще покойнее Ярославля. Здешние работники завидуют даже ярославцам:
— Поглядели бы вы зимой, — глушь, захолтустье.
А между тем в Костроме — две огромные текстильные фабрики, махорочная, лесопильные заводы. Фабрики и рабочие кварталы отодвинуты; их сразу и не приметишь.
В садике на откосе —с него вид километров на двадцать, на луга и леса, на монастырь, в котором теперь антирелигиозный музей, — сидят двое парней с фабрики Ленина. Спорят. Предмет спора — соревнование. Первый парень обижен, ему выражено недоверие: мастер усомнился в нем, не дал работать на новом станке.
— Держат старого хрена Игнатьича. Что он тебе наработает!
Второй парень успокаивает его. Игнатьич не так уж стар, работает двадцать три года, а недовольный — только третий год на фабрике.
— Затирают! — не сдается обиженный.
За Волгой загораются огни пристаней и фабрик, и расплавленной медью сверкают окна домов. Моторные боты вспарывают водную гладь, оставляя после себя пушистые борозды. На улицах — обволакивающий сумрак, на приступочках сидят и судачат, щелкая семечки, костромские домохозяйки.
А на площади, в саду, копошатся садовники, сажают цветы и кусты. Горсовет только недавно взялся за благоустройство, и уже подстрижены деревья, и пламенеет зелень газона. В центре города решено устроить парк культуры и отдыха, с редкими растениями, с павильонами для шахмат, читальни, со спорт-плошадкой. Новые хозяева города устраивают и просторное жилье — 72-квартирный дом. Мостятся улицы, электростанция, обслуживавшая только центральные кварталы, расширяется, и другая станция, — радиоузел, — посылает своим абонентам вечернюю музыку Москвы, Ленинграда, Харькова.
Волжское повечерье незаметно переходит в ночь. Рыбинский пароход дает приветственный гудок. В рубке хрупко звенят графины, стаканы... Щеголеватые водники в беловерхих фуражках ходят по палубе, чистой, свеже-окрашенной.
Глухо застучала машина и лопасти парохода заплескали по воде. Убирают сходни.
Пристань тихо отходит в сторону.
Верхушки церквей, крыши домов, трубы фабрик мерещатся еще в лунном озарении, и над ними, над Волгой, в светлом просторе, плывет человек в пиджаке, с простертой рукой.

***
Лев Нитобург. Рисунки: Михаил Храпковский. Публикуется по журналу «30 дней», № 9 за 1929 год.
Из собрания МИРА коллекция