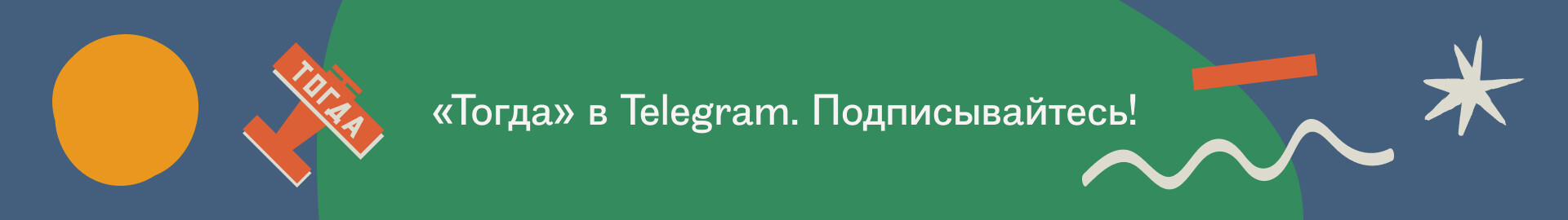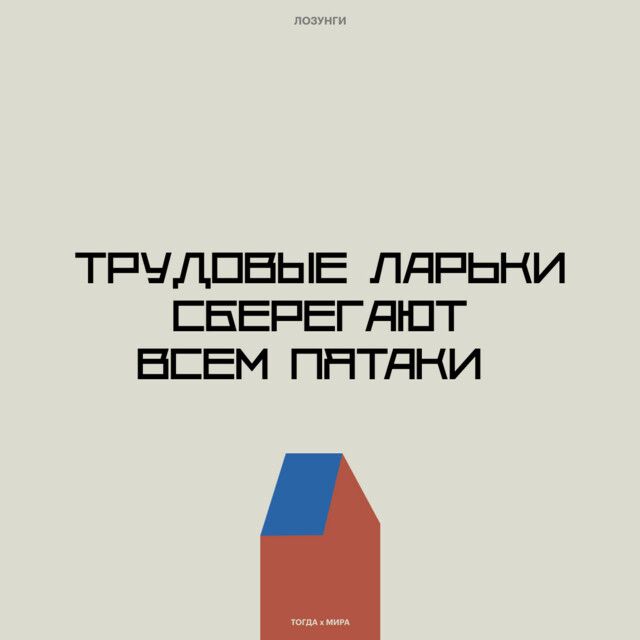«Служебная записка». Петр Ширяев

Наступил Михайлов день, а с ним — гулянки и веселье. По старому обычаю, все свадьбы в Лавровке приурочивались к престольному празднику восьмого ноября, замыкая собою трудовой круг весенней, летней и осенней страды в полях и на гумнах.
У церковной ограды с утра и до вечера, как в ярмарку, стояли десятки крестьянских подвод, убранные самоткаными цветными коврами, с расшитыми рушниками вокруг широких дуг, с колокольцами и с множеством яркоцветных тряпочек и лент, вплетенных в хвосты и гривы лошадей.
В главном приделе церкви три священника, сменяя друг друга, венчали крестьянские пары.
Ставили в ряд перед аналоем по шести пар (больше не было венцов!), нахлобучивали на глаза женихам и невестам тяжелые медные венцы и с торопливой усталостью свершали положенный обряд.
В нетопленной церкви было мрачно и холодно; дыханье клубилось паром; из-под бархатных риз священников выглядывали замызганные подолы стеганых подрясников и неуклюжие валенки; пахло овчинами и самогоном; вместо ослепительных люстр жалко мигали дешевенькие восковые свечи, а хоровое пение заменял простуженный речитатив псаломщика, за которым никак не мог поспеть старательный и благочестивый тенорок пономаря.
И венчальный обряд, лишенный торжественной пышности, был похож на диван с отодранной обшивкой, когда видно его неприглядное нутро из скособоченных пружин, мочалы и взлохмаченного тряпья...
Зато за стенами церкви, по селу, раскатывалось неуемное, хмельное веселье.
Крепкие, звонкие голоса девок, не признающие ни мороза, ни простуд, до поздней ночи горланили свадебные песни, им вторили осиплые и пьяные мужики, со дворов и изб в улицы пер самогонный дух и теплый аромат блинов, перекликались во всех концах гармоники, и сам председатель волисполкома, Пеньков, три дня сряду приходил в Совет с опозданием и никак не мог кончить начатый перед праздниками доклад уездной власти о закрытии в селе Лавровке церкви и об устройстве в ней клуба, «согласно беспрекословному желанию сознательных и сплоченных граждан волости»...
У Пенькова была бритая голова, и когда он снимал шапку, прежде всего, бросались в глаза два шрама на ней. Выступая с речами на сходах, он по-бычьи нагибал голову к слушателям и, тыча в шрамы большим пальцем, зловеще говорил:
— Просчиталась капиталистическая сволочь, — ан жив остался Николай Пеньков!..
И начинал громить контр-революцию...
Стучал по столу кулаком, скрипел страшно зубами, плевался и растирал плевки ногой, и его бритая голова тогда багровела, и два шрама были похожи на толстые веревки.
За самоуправство и поборы крестьяне не любили Пенькова, называли его за глаза Николай второй и говорили про него разное, но из всех слухов один держался упорно; слух о том, что Пеньков совсем и не матрос, а беглый каторжник и синюю рубаху с откладным белым воротником носит вместо паспорта... Откуда появился он в Лавровке и как попал в председатели волисполкома, никто толком объяснить не мог и не доискивался — беспокойное было время, не до этого!.. С затаенной нелюбовью терпели его власть и привычно молчали. И только один Никифор, нелюдимый и мрачный станционный стрелочник, однажды на собрании, не дослушав речи Пенькова, встал и уходя громко проговорил:
— Никакой ты не матрос, а острожник оторви-голова!
***
На четвертый день праздника неожиданная пала после мороза оттепель; закапало с крыш, потемнела навозом дорога и суетливые армии воробьев наполнили теплый воздух несмолчным чириканьем, будто тысячи невидимых, проворных рук высекали из кремней звучные, острые искры.
Под горой на станции стоял длинный эшелон, проходивший на красновский фронт к Борисоглебску. Девки и бабы, прослышав об эшелоне, толпами повалили на станцию, и к полудню станция напоминала базар. Разодетые по праздничному девки, луща семечки, толкались у вагонов, перекидывались бойкими шутками с солдатами и пронзительно визжали, когда какой-нибудь шутник, ворвавшись в их пестрый круг, делал попытку поцеловать нарядную красавицу...
В средине состава был вагон, отличавшийся от других вагонов специально устроенной дверью и еще тем, что к двери была приставлена лесенка. На двери густела тяжелая черная надпись:
ШТАБ
Огромного роста человек в мохнатой папахе и со смуглым рябоватым лицом, выйдя из вагона, спустился до половины лесенки, остановился, посмотрел направо-налево и вдруг с криком: «держи-и их!» прыгнул в цветную гущу девок и баб у соседнего вагона.
Визгом, криками, смехом брызнуло бабье в разные стороны. Огромный человек поднял свалившуюся с головы папаху и загоготал, откидывая назад плечи и выпятив живот, туго перехваченный широким ремнем.
— Товарищ Клымчук, а товарищ Клымчук! — громко, так, чтоб слышали отпрянувшие от него девки, крикнул он одному из солдат, — а не отобрать ли нам дюжину из них с собой до фронту?.. Я так полагаю — кашу маслом не спортишь? Гей, бисово племя, айда с нами до фронту, николаевским генералам пятки салом мазать!..
— Не пужай, не боимся! — звонко отозвалась курносая девка, стоявшая впереди других, и, схватив двумя пальцами огненную юбку сарафана с нашитыми вокруг ярко-зелеными лентами, манерно оттянула ее в сторону и, притопывая новыми глубокими галошами, прошлась кругом, визгливо выкрикивая слова частушки:
Меня батюшка пужал,
А я не бо-я-ла-ся.
В сенцах миленький прижал,
А я за-сме-я-ла-ся!..
Девичьи голоса дружно подхватили плясовой припев. Человек в папахе упер руки в боки, тряхнул головой и лихим плясом подлетел к хороводу.
— Ну, выходи любая! — задорно повел он плечами, оглядывая румяные девичьи лица, — покажу я вам, как матрос пляшет перед смертью!
— Матрос у нас свой, да почище есть! — задорно отозвалась курносая красавица в огненном сарафане.
— Вот бы тебе с ним поплясать! — выкрикнули сразу несколько голосов.
— Николая второго сверзили, а он у нас объявился! — еще задорнее продолжала курносая.
— Это что же за Николай второй у вас?! — весело спросил человек в папахе, посматривая то на одну, то на другую девку.
Проходивший по запасным путям стрелочник Никифор остановился и прислушался. Потом подошел ближе, постоял минуту и, словно для себя только, проговорил:
— Он и не матрос совсем, а острожник уголовный... Матросское звание порочит...
И вышло так, что всем были слышны тихие слова, сказанные хмурым Никифором для себя. И когда хотел он пройти дальше, человек в папахе остановил его и поманил пальцем.
— А ты что за человек?
— Обныковенный человек и стрелошник, а вам товарищ есть.
— Наш, лавровский, дядя Никифор! — загалдели девки. А один голос четко отпечатал:
— Партейный!
Человек в папахе опять посмотрел на девичьи румяные лица, взглянул еще раз на Никифора и спросил курносую Глашку:
— А почему ж он Николай второй?
— Николаем звать!
— Меня тоже Николаем поп назвал! — засмеялся человек в папахе.
— Про тебе нам ничего неизвестно, а наш на виду у всего села сундуки выгребает! — ляпнула Глашка.
Несколько рук сразу одернули ее за полукафтан.
— Глашка, окаянная, да ты рехнулась! Замолчи! Ай не знаешь?!
Но Глашка, как купальщик, который уже окунулся в холодную воду, отмахнулась от подруг и продолжала отчаянно:
— Шлюха-то его и сейчас в Грунькиных полусапожках форсит, весь рундук под метелку вычистил, а у дяди Андрея и холстами не побрезговал! И не замолчу, и не боюсь нисколичко!.. Пущай мужики боятся, а мне что?!.
Человек в папахе внимательно смотрел на Глашку и, словно подбадривая ее, кивал головой.
И опять нелюдимый мрачный Никифор, на этот раз уже не для себя, а обращаясь прямо к человеку в папахе, твердо проговорил:
— И не матрос он, а уголовник!.. Правильно баба все сказывает.
***
Пенькову, как председателю волисполкома, не раз приходилось иметь дело с проходящими через станцию эшелонами.
Получив с верховым служебную записку от командира эшелона т. Гобечия с предложением явиться на станцию по срочному делу, он застегнул на все пуговицы свой коричневый френч, опоясался ремнями, прицепил наган и послал курьера за лошадями. Ездил Пеньков всегда на вороной паре.
— Насчет овса, не иначе, разговор будет! — высказал он свое предположение секретарю, — из дивизии Киквидзе отряд-то, кавалерия...
Секретарь вздохнул.
— А где его взять, овес-то?
— Найде-ем! С шерсткой возьмем! ухмыльнулся Пеньков, взял со стола полученную записку, перечитал ее и протянул секретарю.
— Чего? — спросил секретарь, прочитав.
— Командир-то, должно быть, тово?.. — подмигнул Пеньков, — подпись, гляди, словно на колокольню лезет!
Подпись, действительно, была странная. Кривые буквы, жирные и красные, неудержимо стремились вверх, залезая на строчки, написанные на машинке, а росчерк вместо того, чтобы идти вниз под подписью, как это бывает обычно, взмахивал вверх, через всю записку, лисьим хвостом, утолщаясь к концу и протыкая бумагу...
— А у нас в роте писарь был, мог по почерку определить, что за человек пишет! — проговорил секретарь, — все, бывало, расскажет!
— Тут и рассказывать нечего! — дернул у него из рук бумажку Пеньков, — насчет фуража— ясное дело!
— Я не про это, Николай Егорыч; касательно характера определить можно по почерку, если кто понимает, злобный, например, аль снисходительный или, например, семейное положение...
Пеньков посмотрел на росчерк, проткнувший бумагу, хотел что-то сказать, но не сказал и вдруг засмеялся. Отошел к окну и долго смотрел на улицу. А секретарь продолжал:
— Один раз, помню, старший писарь дает ему письмо и говорит: расскажи, какой характер и положение у особы, от которой письмо это? Вот он взял письмо, посмотрел и говорит: — очень легкомысленного положения ваша особа, Евлампий Федорович, а как вы мое начальство, больше ничего несмею сказать, только предупредить должен — больная она венерической болезней и вам надо в околоток к фельдшеру на осмотр идти...
— Поставлю я обязательно телефон между станцией и исполкомом! — прервал Пеньков неожиданно секретаря, — буду разговаривать телефоном... Доклад надо писать, а тут изволь ехать на станцию разговоры разговаривать. Нешто не поехать?..
Секретарь в ответ пробормотал неразборчивое и уткнулся в лежавшие перед ним бумаги. Пеньков перечитал еще раз записку.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЛАВРОВСКОГО ВОЛИСПОЛКОМА.
С получением сего предлагаю Вам немедленно прибыть на станцию, в штаб отряда, по срочному служебному делу.
Командир N отряда дивизии
Киквидзе Гобечия
— У нас тоже срочные дела есть! — хмуро проговорил Пеньков и сунул записку в боковой карман френча, увидя в окно подъезжавшую к совету вороную пару.
Через несколько минут, будоража собак и кур, он уже мчался по, селу к станции.
Когда бойкая пара вырвалась из последнего узкого проулка с покосившимися темными избами на лысый бугор, с которого была видна вся станция как на блюде, кучер Василий придержал лошадей и, вытянув кнут, воскликнул:
— Гля-ко-сь, Миколай Егорыч, чисто ярманка-а!..
Пеньков и без восклицания Василия все увидел сразу... И длинный состав красных товарных вагонов, и множество народу там, и отдельные фигуры, спешащие по займищу от села к станции и обратно...
Как раз в этот момент откуда-то сзади появился всадник в малиновой фуражке и красных штанах, на горбоносой злой лошадке; поровнялся с парой, заглянул в лицо Пенькову и стремительным гнедым комком покатился под гору к станции. Пеньков узнал в нем привезшего служебную записку...
Отстегнул светлую перламутровую пуговицу величиной в пятак, достал записку и начал рассматривать штамп и печать.
А потом сказал Василию:
— Кисет с табаком позабыл!..
Василий осадил пару.
— Возворачиваться?
Пеньков ответил не сразу. Смотрел вперед, вниз, через займище, на длинную красную ленту вагонов и молчал. Записку держал в руке. Потом глухо приказал:
— Трогай!
Куда трогать? — Пеньков не объяснил, и Василий поехал под гору, к станции, но, когда спустились на займище, Пеньков ткнул его в спину:
— Куда ты?!. Говорю, назад поворачивай, говорю — кисет позабыл!.. Василий повернул пару обратно. И не успел доехать до горы, как Пеньков снова передумал.
— Валяй к станции!.. Все равно!.. Небось, угостят папироской
— Обязательно угостят! — убежденно отозвался Василий, —с Москвы, небось, идут, в Москве папирос сколько хошь!.. Э-эй, вы-ы, кана-ашки!.. подхлестнул он лошадей, пуская пристяжную вскачь.
С запиской в руке сидел Пеньков и смотрел на быстро приближавшуюся станцию.
Правый боковой карман коричневого френча был расстегнут. Так, с запиской в руке и с не застёгнутым карманом, он прошел через грязный пустой вокзал на платформу, пересек рельсы, растолкал толпившихся на путях баб и очутился перед вагоном с некрашеной дверью и приставленной к ней лесенкой. На лесенке стоял человек в папахе и смотрел на него. Широкая фигура загораживала дверь и надпись к ней. Были видны только две последние густые, черные буквы:
АБ
— Который тут товарищ Гобечия? — спросил у него. Пеньков, взглянув на записку.
— Здесь — ответил человек в папахе и скрылся в вагон.
В хвосте состава в одной из групп солдат и девок пиликала гармоника плясовую, были слышны веселые вскрики танцоров и присвист. Пеньков посмотрел туда, оглянулся назад, поправил наган у пояса и спросил стоявших у штабного вагона солдат:
— На Краснова дуете, братишки?
Никто ничего ему не ответил.
— Куревом не богаты? — спросил, помолчав, Пеньков.
Один из солдат достал пачку папирос и протянул ему. Закурить Пеньков не успел.
Дверь вагона открылась. Вышел человек в папахе и, спустившись по лесенке, стал сбоку Пенькова. Потом вышел еще человек в малиновых рейтузах и шинели в накидку.
У него было красивое лидо, с черными молодыми усиками над капризным ярким ртом, и резкий гортанный голос.
— Председатель волисполкома Пеньков? — отрывисто спросил он, осматривая Пенькова, и сел на верхней ступени лестницы.
— Я самый, ответил Пеньков, роясь в карманах. Не найдя спичек, посмотрел кругом в надежде, что кто-нибудь даст ему спичку. Папиросу держал в левой руке, в правой —записку.
Жгучий красавец еще раз окинул его быстрыми глазами и неожиданно резко спросил.
— Зачем взятки берешь?
Пеньков втянул голову в плечи, вскинул на спрашивающего водянистые глаза и усмехнулся.
— Спрашивай еще чего? Разом отвечать буду! Не впервой! Я, товарищи, к эдаким оборотам привык!..
Сзади Пенькова зашушукались и завозились. Он оглянулся. Заметил в толпе девок несколько пожилых знакомых крестьян и, шагнув ближе к лесенке, проговорил вполголоса и деловито:
— Об этом разговор по секретному надо вести, товарищ! Тут дело не простое, а государственное, разреши в вагон подняться.
Человек в малиновых рейтузах вытащил из кармана шинели бумажку и, не отвечая
Пенькову, начал читать.
— В сентябре, на воздвижение, у Андрея Воронина забрал два куска холстов, у Аграфены Уваровой из сундуков полусапожки новые со шнурками, отрез сатинету да вельвет синий.
Подталкиваемая десятком рук, к вагону вышла молодая баба, одетая не по-праздничному. Пеньков узнал в ней Аграфену Уварову и свирепо, выразительно уколол её глазами.
— Заступись хоть ты, кормилец, — плачущим голосом заговорила Аграфена, — житьяснету!.. Все вычистил, самая я и есть Аграфена, на одной улице с им, окаянным, живу.. Хоть полсапожки прикажи вернуть, да вельвет чтоб отдал!.. Сатинет, шут с ним — пущай пропадает! Разутая для праздника хожу...
— Зачем женщину грабишь?! — гневно вскрикнул красавец в рейтузах, — ты не знаешь, как называется из сундука брать? Не знаешь?!.. Нет?.. Я тебе скажу, как называется!
— У Степана Коновалова отобрал суконный френч коричневого цвета, а френч этот остался от сына Петра, убитого на красном революционном фронту...
Десятки глаз устремились к френчу на Пенькове. Пеньков застегнул боковой карман перламутровой большой пуговицей, усмехнулся и что-то хотел говорить, но огромный человек в папахе, подпиравший могучим плечом вагон, откачнулся от вагона, словно дернули состав, и мрачно, в упор подошел к Пенькову.
— Какого флота?
— Балтийского, — глухо ответил Пеньков.
— А корабля?
— Авроры.
— Кем служил?
— Матросом.
Человек в папахе ухмыльнулся и взглянул быстро на командира эшелона.
— А кто командиром в семнадцатом был?
Пеньков потупился. Исподлобья бросил воровской взгляд кругом и молчал.
— Ну, сказывай! — насмешливо сказал человек в папахе, — обещал разом на все отвечать!.. Ну?.
И тут вышел из толпы, грудившейся позади Пенькова, стрелочник Никифор и твердо проговорил:
— Не матрос он, а острожник! Советской власти от него первый вред.
После его слов вдруг стало тихо, и было слышно, как по другую сторону вагона чирикают оживленно воробьи. Никифор обвел всех упорными черными глазами и уже потянул в себя воздух, собираясь сказать что-то самое важное, но в этом момент Пеньков упал вдруг на колени перед лесенкой и вытянул вперед, к красавцу в малиновых рейтузах, руку с не закуренной папироской между пальцами. Папироска дрожала, словно была живая.
— Това-арищ!.. Виноват!.. Товарищи!..
— Расстрелять! — резко крикнул гортанный голос, покрывая жалкие, путающиеся слова Пенькова.
— Товарищи, дорогие!..
Пять человек с винтовками оторвали Пенькова от лесенки и повели с насыпи вниз.
Следом за ними густо повалила толпа баб и мужиков. Смуглый красавец выпрямился во весь свой высокий рост на ступеньках лестницы, постоял так минуту и, круто повернувшись, вошел в вагон и плотно прикрыл за собой дверь.
У вагона, у лесенки остались двое: огромный человек в папахе и стрелочник Никифор.
Человек в папахе, опершись на лестницу, стоял как в столбняке и смотрел под ноги себе в землю. Никифор — по другую сторону лестницы и те же смотрел на притоптанный ногами девок и солдат снег, усыпанный подсолнуховой шелухой и окурками...
Нестройный залп за насыпью оборвал звонкую щебетню воробьев, и они затихшей стайкой, почти неслышно, прошли над головами двух молчавших людей у штабного вагона с некрашеной дверью и приставленной к ней лесенкой.
Капало с крыши...
***
Петр Ширяев. Рисунки: Михаил Черемных. Публикуется по журналу «30 дней», № 4 за 1929 год.
Из собрания МИРА коллекция