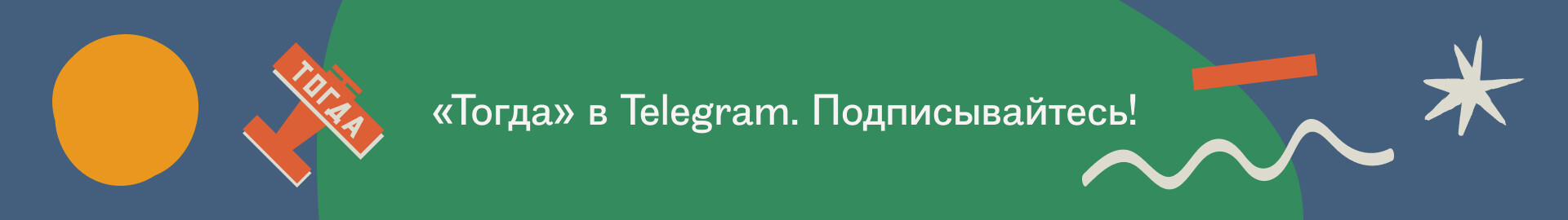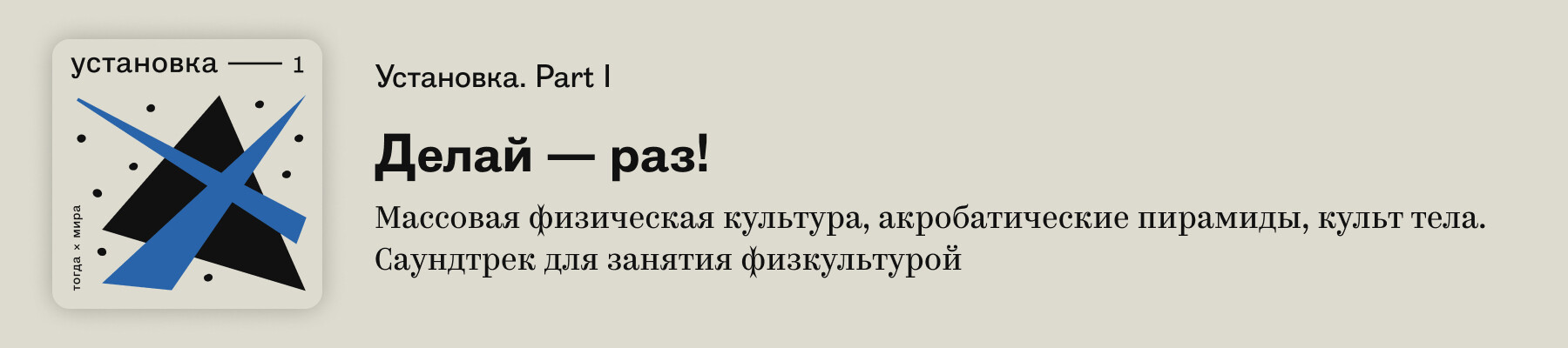«У ворот мая». Николай Ляшко

Мы спешим из цехов и огромной бурлящей подковой теснимся у проходной будки. На улицу можно пройти через дощатые, похожие на стойла, коридоры. Конец каждого коридора выщерблен выемкой, в каждой выемке возвышается породистый сторож. Они хватают каждого из нас, обыскивают с шеи до щиколоток и толкают дальше. Мы в шесть ручьев несемся через их руки, а за воротами сливаемся в поток. Предвечернее апрельское солнце плещется нам в лица. Мы шагаем по утрамбованной нами мостовой, из-под нас вздымается первая весенняя пыль.
Вся земля от завода и до города занята нами. Наши головы будто плывут по синеве блуз. Каждого из нас ждут вечер, отдых, сон. Но вдруг мы вздрагиваем, выпрямляем спины, замираем, вытягиваем шеи, и в глазах наших жар любопытства и восхищения.
От завода мчится пролетка, а с нее в обе стороны белыми крыльями летят, разворачиваются и падают листовки. Меня пронизывает лихорадка радости. Я впиваюсь, глазами в лошадей, в кучера, в того, кто летит мимо нас на белых крыльях последнего апрельского дня. Он в белой рубахе, в надвинутой на глаза кепке. В ногах его огромный чемодан с листовками. Он хватает их и сеет в нас обеими руками.
Улица бурлит, тянется к семенам руками, прячет их, ахает и смеется.
***
Я до темна гадал со сверстниками, что будет завтра на заводе. Мы спорили, сговаривались, а перед нами, в саду лавочника, пел соловей. Лавочник пил на балконе чай и слушал разбитый граммофон. Это смешило и злило нас. Мы мяукали, гоготали и разошлись с пустыря, когда граммофон подавился.
На заре в саду лавочника вновь пел соловей. Дворники метлами гнали в разгорающийся день облака пыли. Я забрался на хилое кладбище и вернулся на улицу с ворохом распускающейся сирени. Ко мне потянулись знакомые и незнакомые:
— Дай немножко...
Себе я оставил большую ветку и воткнул ее в бабку станка. Она как бы вросла в чугун и дышала на меня и станок садом.
***
В спадающий гул третьего гудка ворвались тревожные рожки смазчиков.
Моторы зашевелились, трансмиссии замахали спицами, и цех заполнило шуршание ремней. Вдалеке кто-то сразу же пустил станок, — медь завизжала под резцом. Кран снялся с места, заглушил грохотом звуки трансмиссии и пополз за ношей.
Старики пустили станки, за ними пустили пожилые, а после них нехотя пустили станки и мы, молодые. Я пустил свой так, будто на меня сзади глядел кто-то и смеялся.
— Ага, и ты пускаешь? Вот, вот...
Вдоль станков ходили монтеры, табельщик отмечал в журнале номера. В дверях появились начальник цеха и мастер. Моя сирень насторожила начальника. Он подошел ко мне, заглянул в дыру шестерни, которую я растачивал, раскрыл рот, спохватился и заспешил прочь.
***
В полосах солнца пляшет пыль, и кажется, что в май вы войдем обычно, серо... И вдруг с надстройки над крылом цехов, оттуда, где точат шрапнели, в цех летит пустая шрапнель:
— Вззви-и-и-и!
Визг и дребезг ее подхватывает пронзительный стук в пустую вагонетку, а из-под стука вырываются крики:
— Броса-а-ай!
— Товарищи-и-и!
Наши руки порывисто взлетают к проводам, ремни перелетают на холостые шкивы, и станки замирают. Мы возбужденно бежим к не остановившимся станкам:
— Бросай! Бросай!
С надстройки гулко сбегают шрапнельщики. Серединой цеха под свист и улюлюканье бегут начальник, мастер, монтеры и бригадиры. Мы возбужденно спешим на людный двор и жадно оглядываем его и себя.
С вороха литья о чем-то говорит наш токарь. Я каждый день видел его, ничего особенного не замечал в нем, а он, оказывается, сродни тому, вчерашнему с пролетки. Я спешу к нему, к его словам, но меня оттирают. Ворота распахиваются, и на нас с улицы летят казаки.
Мы вбегаем в цех, запираемся и сквозь окна осыпаем казаков гайками и болтами.
Казаки спешат из пролета между цехами назад. Между нами внезапно взвивается песня. Я слышал об этой песне, но в ушах моих она звучит впервые. Поют ее человек тридцать наших токарей и слесарей. Головы их приподняты, лица такие, будто мы на краю света, и они песней зовут нас к себе.
***

— Эй, выходи! Казаков убрали!
Ворота цеха скрипят. Мы входим во двор и в изумлении озираемся. У соседнего цеха, перед толпой, стоят люди в белых кителях и летних пальто.
Среди них человек в шинели, в фуражке с красным околышком. Он говорит что-то, а когда из толпы вырывается крик машет белой перчаткой:
— Взять!
Люди в кителях и летних пальто врезаются в толпу, но та встречает их кулаками, палками, бранью, и они отбегают прочь. Один из них путается в подставляемых рабочими ногах. На его белую, как снег, спину падает рука в олеонафте, в саже и остается на ней огромным мутно-черным знаком. Человек в шинели недовольно вздергивает плечи и идет к нам. За мною шуршит:
— Генерал-губернатор, князь...
Лицо у генерала большое, одутловатое. Оно плывет к нам, а кажется, что плывут только околыш и красный, как бы поднятый кверху усами; большой нос. Под его шинелью, на белом кителе, у самого воротника, на ленточке качается крестик с камушками цвета запекшейся крови. Он останавливается перед нами и говорит:
— Здравствуйте.
Мы молчим. Он кашляет и спрашивает:
— Чего вы хотите?
Мы молчим. Он топорщит губы и кричит:
— Значит, вы ничего не хотите? Так зачем же прекратили работу?
За мною раздается крик:
— Наши требования поданы директору!
Генерал и свита его ищут глазами того, кто крикнул:
— Голубчик, выйди сюда и говори...
— Видали мы эти разговорчики, — несется из толпы.
Генерал краснеет, указывает на голос рукою и громко, словно мы стоим в версте от него, говорит:
— Это зачинщики! Вы не должны верить им! Бог землю не уровнял, есть горы и долины, а вы хотите быть равными со всеми. Это грех и преступление. Будьте благодарны, что я разговариваю с вами. Вы бунтовщики, и я по закону имею право поступить с вами по всей строгости, но мне мешает вот что...
Генерал двумя пальцами приподнимает на шее крестик с камушками цвета запекшейся крови:
— Я христианин...
— Оно и видно...
Генерах наливается багротою и кричит:
— Становитесь сейчас же на работу!
Мы глядим на его удаляющуюся спину, глядим так, что он должен упасть, но он не падает...
***
— Слышь, идем, — трясет меня сверстник.
Я тру лоб и гляжу на него:
— Куда?
— Генералово приказание исполнять.
Сверстник смеется, и я иду за ним. Мы проходим пустой, в холостую работающий трансмиссиями цех и выбираемся на задний двор. Рабочие от всех цехов спешат к забору, взбираются на него и падают в степь.
— Ну, и хитер же, чорт: о равенстве, о горах, долах запел, а в наших требованиях об этом ни оха, ни вздоха...
Мы степью спешим к городу, но впереди вырастают солдаты. Они рассыпаются в цепь и бегут на нас. Из-за них появляются казаки. Вся степь усеяна нами... Мы знаем, куда бежать. Вот... Мы синими муравьями скатываемся в огромный овраг, карабкаемся из него на противоположную сторону, машем казакам и солдатам, укоряем их и зовем за собой.
Ими кажется, что мы не вешали еще ворот в май. Они спешат в обход и опять гонят нас, и опять мы зовем их за собою, в май...
***
Николай Ляшко. Рисунки: Владимира Козлинского. Публикуется по журналу «30 дней», № 5 за 1929 год.
Из собрания МИРА коллекция