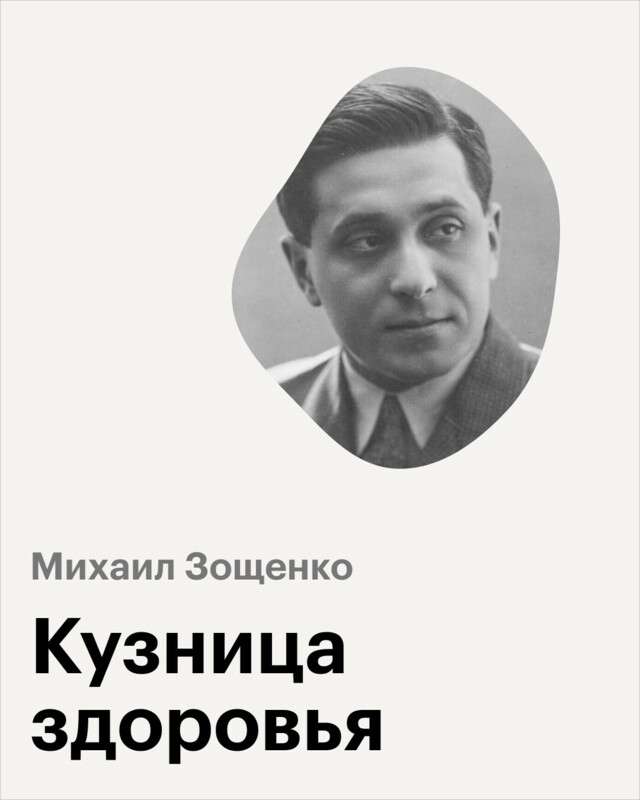«Два хозяина». Александр Перегудов
Утром Аким Никитич Карпухин послал в Москву телеграмму: «Весь груз отправлен. Последний ящик высылаю сегодня ночью».
В Москве жена и дочь прочитают: «Будьте готовы к выезду. Сегодня ночью выезжаю сам».
Днем обошел завод.
Трехэтажные кирпичные корпуса гудели обыденным деловым гулом; хором пели в них машины, станки, вентиляторы. В точильном отделе по обычному встретили фабриканта заведующий и смотрители, вытягивая руки по швам, робко и преданно заглядывая в глаза. В длинных мастерских на высоких «хорах» подсыхал сырой фарфоровый товар. Хозяйским взглядом окинул Аким Никитич серые, еще необожженные тарелки, чайники, чашки, спросил у заведующего, скоро ли будет исполнен заказ на столовые сервизы в стиле «рококо», протянул ему, почтительно согнувшемуся, пухлую руку и сказал:
— Ты иди к себе, дальше я один пройду.
Мимо длинного ряда точильных машинок, на которых, как и всегда, при появлении хозяина, нарочно прилежно работали точильщики, фабрикант грузно прошел к выходу. Все было обычно, но вместе с тем в согнутых фигурах рабочих, в робких смотрителях и как будто даже в стенах корпуса фабрикант чувствовал что-то новое, непонятное и жуткое. В почтительных ответах заведующих Аким Никитич заметил плохо скрываемую растерянность. Заведующие и смотрители были похожи на людей в лодках, у которых сломали весла; стараясь не выдавать своего беспокойства, они прилежно гребли обломками, направляя лодки по их обыденному пути. Он увидал, что у машинок, где наждачными листами зачищался товар, серые лица рабочих были похожи на плотно замкнутые двери. По нескольким взглядам, брошенным в его сторону, фабрикант заметил в глазах точильщиков, как в замочных скважинах, вспыхнувший незнакомый горячий свет.
Стараясь казаться спокойным и важным, Аким Никитич остановился у крайней машинки и спросил:
— Что это пылища какая?
Точильщик, продолжая работать, ответил:
— Вентиляция плохо работает, оттого и пыль. Скоро все от чахотки передохнем.
Если бы раньше фабрикант услышал такой ответ, то затопал бы ногами и, багровея, крикнул: «Вон»! Подбежали бы испуганные смотрители и вывели рабочего за фабричные ворота. Но сейчас Аким Никитич только густо покраснел и, ничего не сказав, поспешил к выходу.
Над крышами горнового отдела из больших серых труб рвались в небо огненные факелы, и черный дым длинными дорогами тянулся над заводом.
Аким Никитич долго смотрел на эти факелы и думал о том, что скоро исполнится столетие с тех пор, как прадед его зажег в этих лесах и болотах первый маленький горн. Хмурые полчища елей, трясины и топи осветил тогда тот первый факел; запахом дыма и гари, багровым заревом ночами внес смятение и страх в спокойную доселе жизнь обитателей глухомани. Через несколько лет рядом встал еще горн, а там еще и еще... Сейчас на заводе — десять горнов; их пламя освещает не глушь и болота, а огромные кирпичные корпуса, длинные улицы рабочего поселка, узкоколейку, по которой паровозики тащут вагонетки, груженные торфом — топливом для завода — с тех болот, где некогда паслись лоси и пугали людей лешие.
«Кто все это воздвиг? — думал фабрикант. — Отец мой, дед, прадед... А вот этот огромный корпус построил я сам... Забыли, скольким людям дал кусок хлеба, сколько беспомощных старух кормлю в богадельне, какой храм воздвиг...»
И, незаметно для себя, сказал громко:
— Забыли... Ну, что ж, посмотрим, что из этого выйдет.
Его взгляд упал на новые шестерни, сложенные грудой у стены и не покрытые брезентом. От дождей металл поржавел, и, чувствуя раздражение на такое отношение к хозяйскому добру, Карпухин вынул записную книжку и написал:
«Разгонять механика за шес...»
Но, усмехнувшись, махнул рукой и, не дописав, прошел в машинный отдел.
В машинном отделе с грохотом вертелись барабаны, стучали сита у мешалок, бегали в облаках пыли бегуны, дробя шпат и кварц. И здесь, как всегда—почтительно, встретил его заведующий отделом химик Тиц, доложил о неисправности одного из прессов, пожаловался на механика за до сих пор еще не законченный ремонт и замолчал, ожидая вопросов хозяина.
Хозяин внимательно оглядел прессы, мешалки, хотел подойти к барабанам, но вернулся с полдороги и тихо сказал, отвечая не то на доклад заведующего, не то на свои мысли:
— Ну что же... Да... да... Так...
— Слушаю, — ответил Тиц.
Карпухин вздрогнул.
— Что?.. Ты что-то сказал? — и не давая ответить, положил тяжелую руку на плечо химика. — Да. Вот что... Передай смотрителю Шумову, чтобы он сегодня вечером, часов в десять зашел ко мне в кабинет.
— Он здесь. Позвать?
— Я сказал вечером... в кабинет.
Наклонив голову, Аким Никитич вышел из отдела. Он старался не смотреть на встречающихся рабочих, чувствуя, что они не опустят перед ним своего взгляда и не схватятся, как раньше, за фуражки.
***
Вечером в кабинете фабриканта на письменном столе горела свеча. В углах комнаты, в широких складках портьер прятались тихо шелестящие тени. Маслянисто поблескивали отблески света на полированной мебели и голубовато-лиловыми искрами вспыхивали в хрустальной бахроме низко спущенной с потолка люстры.
Аким Никитич торопливо просматривал разбросанные на зеленом сукне бумаги; одни жег на пламени свечи, — отчего кабинет внезапно освещался, тени из углов скользили по стенам за портьеры и в широких шкафах показывались ряды книг и поблескивали золотые тиснения корешков, — другие бережно прятал в кожаный саквояж, стоящий рядом на кресле.
В дверь осторожно постучали.
— Кто? — спросил фабрикант, прикрыв ладонями бумаги.
— Это я — Поля. К вам смотритель из машинного отдела пришел.
— Пусть подождет в гостиной. Когда я позвоню — проведи его ко мне. Потом передай на конный двор, чтобы половина одиннадцатого мне подали лошадь. Пусть запрягут «Наяду».
— Слушаю-с.
Аким Никитич торопливо перебрал оставшиеся бумаги и, скомкав, бросил в корзину; затем, захлопнув ящики стола, подошел к окну и откинул портьеру. В туманной черноте ночи бледно-голубыми бусами висели огни фонарей. В открытую фортку доносились далекие песни рабочего поселка и шершавый шорох ветра в голых ветвях тополей.
Аким Никитич не долго стоял у окна; ему показалось, что кто-то прячется внизу под деревьями и терпеливо наблюдает за ним.
Задернув портьеру, он вынул из кармана пачку денег, отделил от нее несколько бумажек, подумал, прибавил к ним еще две и ткнул пальцем в розетку электрического звонка. Тихий звон добежал из далеких комнат к дверям кабинета; спустя минуту послышались тихие шаги, кашель и робкий стук.
— Можно, можно, входи.
Осторожно отворив дверь, вошел старик, держа в руках измятую фуражку.
— Шагай, шагай, Иван Семеныч. Здравствуй. Садись вот здесь, потолкуем.
Иван Семеныч неловко и бережно пожал протянутую руку фабриканта и сел на краешек кресла.
— Ну, как живешь, Иван Семеныч? Как сын? Не забывает отца-то? Ведь он теперь большая штука — инженер.
— Живем, Аким Никитич, вашей милостью... Спаси Христос на ласковом слове.
— Так, так...
Фабрикант внимательно оглядел тщедушную фигуру старика, праздничный пиджачок, надетый для визита хозяину, большие стоптанные, но яркое начищенные сапоги.

Смотритель молчал, дожидаясь вопросов хозяина. Он крепко сжал губы, отчего под усами легли морщинки и чуть заметно шевелилась серая редкая бороденка. Когда дальнейшее молчание показалось старику непочтительным, он, тихо кашлянув в ладонь, спросил:
— Что приказать хотите, Аким Никитич?
Фабрикант вместе с креслом придвинулся ближе к столу.
— Не приказать, а поговорить с тобой хочу по душам, по-хорошему. Ты у меня самый верный человек, тебе одному могу довериться. Больше некому.
— Спаси Христос, батюшка Аким Никитич, не забываешь старого.
— Да, да, Семеныч, некому больше, не те люди стали. Видишь, что вокруг делается?
Смотритель сокрушенно покачал головой.
— Что молчишь, Семеныч?.. Конец всему приходит, именно — конец. Народ бога позабыл, выше его стать хочет. И чего ищут, чего хотят? С поддонков муть поднялась, дикость... Вот эти... большевики, захватили власть, разграбили банки, над религией надругались.
Лицо фабриканта покрылось красными пятнами, пухлые руки заметались по столу, по бортам сюртука и беспомощно упали на колени.
— Что делается?.. И как не поймут, как не поймут, что ведь все это раздор. Нарочно кромсают, калечат, губят Россию. Крестьянам говорят: ваша земля, бей помещиков. И что же? — погромы поместий, пожары, бунты... Рабочим говорят: ваши фабрики и заводы. И что же? — фабрики умирают, промышленность рушится... Голод... голод надвигается. Слыхал я — в Москве, у фабриканта Смирнова, мануфактурщика, рабочие уже захватили Ликинскую фабрику... Бунтом!.. а их поощряют: «Молодцы, вы первые напи... национализировали завод». Ну что ж из этого? Не хитро взбунтоваться — как жить-то будут. Как жить-то будут, Иван Семеныч?
Старик молчал, опустив голову. Фабрикант жадно хватил грудью воздух и продолжал, стараясь быть спокойным:
— И вот решил я... уйти... Совсем уйти от вас, бросить завод. Валите: правьте, работайте,..
— Что вы, Аким Никитич?.. Что вы?..—заерзал в кресле смотритель. — Как же это так? Все прахом пройдет.
— Знаю. Знаю, что все прахом пройдет, и вот тебе крест, — Карпухин перекрестился широким староверским крестом, — плачу об этом. Десятками лет создавалось... По кирпичику. Думал об этом, много думал... и знаешь...
Аким Никитич заговорил шопотом:
— и знаешь: только два выхода нашел. Могу я тебе довериться, Иван Семеныч?
— Господи!.. Я сызмальства работаю у вас, из рабочих в смотрителя вышел вниманием вашим. Отец и дед мои у Карпухиных работали, как у родных. Для вас... ах, господи!
Смотритель замолчал, комкая в руках фуражку; его лицо выражало такую преданность, что фабрикант облегченно вздохнул и зашептал:
— Два выхода... Один — это бросить дело... Пусть все к черту летит, пусть все пропадает... Подожди, не перебивай, — сам знаю: это не то... не то говорю... Слушай дальше и понять постарайся... Понять постарайся. Если веришь мне, помочь если хочешь — помоги. И я тебя не забуду. Ни у кого Карпухины помощи не просили, а я вот у тебя прошу... Да, да, прошу. Второй выход — и единственный, чтобы сохранить дело, — это... уничтожить завод.
— Как? Что вы говорите, Аким Никитич?
— Сиди, сиди... Ты подумай: останется завод без руководителя, — а ведь за ним как за ребенком ходить нужно — что тогда?
По миру пойдут все, с голоду вопить начнут... А вот если бы ненароком сгорел завод... Не весь, а какой-нибудь из отделов. Ну, хотя бы машинный... Сиди... сиди, выслушай все... Встанет завод, нет массы, нечем работать. Рабочие волноваться начнут. Понимаешь? Делать-то больше нечего: завод — единственный кормилец. А?.. И вот тогда-то я и вернусь! Машинный отдел заново отгрохаю. Новые прессы, барабаны поставлю, расширю... Снова всем кусок хлеба: и старикам и детям... А? Что ты скажешь? Рабочие тогда доверие ко мне возымеют: спасителем ведь для них я буду.
Смотритель, наклонив голову, молча рассматривал коричневые свои руки.
— Пойми: так оставить — все прахом пойдет, и уж тогда ничем не восстановишь, все само собой погибнет... И вот решил я тебя просить, тебя одного, никто об этом знать не будет...
Фабрикант схватил руку старика.
— Помоги мне, Иван Семеныч, окажи услугу неоцененную...
Старик вздрогнул, хотел встать, но фабрикант, поднявшись с кресла, положил свои ладони на его плечи и строго посмотрел в глаза.
— Сиди... сиди... Пойми: ты этим доброе дело сделаешь... И я тебя не оставлю, до гробовой доски другом моим будешь... Вот возьми эти деньги... Не думай, что это взятка. Нет, нет... Время теперь трудное, ненадежное, хлеб дорожает. Что ты на старости лет делать будешь? Возьми, возьми.
У Ивана Семеныча тряслись руки, расплывчато колыхалось перед ним: широкое лицо хозяина и как будто издалека плыл глухой голос:
— Приди ночью в отдел... положи вот это в укромное местечко... чиркни спичку — и кончено... Вот ключ от отдела.
— Нет, не могу я; Аким Никитич, прости Христа ради.
Фабрикант выпрямился.
— Эх, Иван Семеныч!.. Вспомни, что я для тебя сделал: сына в Москву учиться отдал, инженером сын стал у простого рабочего; тебя в смотрители вывел... Эх, Иван Семеныч!
Слезы блеснули на ресницах Карпухина.
— Ведь вернусь я, и все по-старому пойдет.
— А если узнают... что я?..
— Кто узнает? Никто не узнает. На тебя и не подумают. Так как же, согласен?
Старик молчал.
— Вот возьми этот сверток... Осторожнее... Вот возьми и деньги... Нет, нет, не отказывайся, пригодятся они, ох, как пригодятся... Так, значит, сделаешь?
Смотритель наклонил голову, потом внезапно окрепшим голосом сказал, смотря тусклыми глазами в лицо хозяина.
— А если обманываешь ты меня — бог накажет, Аким Никитич.
— Ну, вот, спасибо!.. Я знал, что тебе одному довериться можно. Не бойся: не обману. Скоро вернусь. Поцелуемся на прощанье... Спасибо... Не забуду услуги твоей.
Иван Семеныч взял в руки сверток и тихо пошел к двери.
— Деньги-то, ключ!.. Возьми, возьми...
И фабрикант сунул в карман старика бумажки и ключ.
— Ну, с богом... Прощай.
У двери смотритель остановился, как будто хотел вернуться, потом ниже наклонил голову и вышел.
Через десять минут горничная доложила:
— Лошадь подана.
Аким Никитич надел широкое непромокаемое пальто, взял саквояж и вышел из дома.
Сеял мелкий дождь. Ветер шипел в голых прутьях деревьев.
***
Сырые тучи низко спустились над землей, вот вот рухнут они на завод и поселок, да высокая труба мешает, — уперлась в небо, не дает падать. Ветер воет в узких проходах между корпусами, сыплет водяной пылью в лицо сторожа Максима. Не хочется из будки вылезать в такую погоду.
Думает Максим:
«Чего сторожить-то? Завод, што ль, украдут? Не украдешь—эн он какой!
Но задремать боится; каждые полчаса у главных ворот бьет часы чугунная доска, и все сторожевые посты ей отвечают звоном. Бьют по-очереди: сначала у главных ворот, басовито; затем у живописного отдела надтреснутым звоном; потом у конторы на посту Максима, словно в колокол в обломок рельсы, — и долго звенит завод сторожевыми звонами.
В шуме ветра Максим слышит глубокие вздохи паровой машины и в этих вздохах чудится ему чрезмерная ее усталость, — вот вздохнет она последний раз и бессильно опустит стальные руки: встанут динамо, погаснут электрические лампочки и тьма беспросветная ляжет на завод. Ветер, сорвавшись с привязей, разметает по кирпичикам многоэтажные корпуса.
Порыв ветра пошатнул будку. Кутаясь в овчинный тулуп, сторож вылез в сырую тьму.
У машинного отдела тускло светит лампочка, мотаясь под ветром, как буйная голова в хмельной час. Кирпичная стена то появляется из тьмы, то пропадает. Как будто тьма хочет проглотить корпус и неможет: давится и выплевывает.
У главных ворот забили часы: два. В четыре сменяться, не долго осталось дежурить. Дождавшись своей очереди, Максим поколотил в кусок рельсы железным болтом и снова залез в будку, закрывшись от водяной пыли широким воротником тулупа.
И задремал.
Свистит ветер в щелях, воет где-то под застрехой неугомонный. А из тьмы вылезает черный и влажный, наклоняется над сторожем.
Лениво полощутся думы в сонной голове:
«Кто?.. Ветер... Кому еще шататься в такую ночь».
Не поднимаются под седыми бровями уставшие веки. Ниже и ниже оседает над заводом небо, вот-вот сломится труба, не выдержит тяжелого груза — что тогда? Пьяной монахиней тащится ненастная ночь, не дойти ей до серого утра.
Сторожу снится родная каморка в казарме, воскресное утро. Дочь будит его:
— Вставай, вставай, самовар скипел, пышки поспели.
Открыл глаза, воротник тулупа отбросил.
«Задремал. Ох, ты грех какой! А часы, может, били... Скажут: «Спит Максим».
Выбрался из будки, и вдруг испуганно заколотилось сердце: в машинном отделе два окна освещены красным светом.
— Свят... свят...
Протер глаза—светятся окна.
Сбросил тулуп, спотыкаясь подбежал к корпусу.
— Спаси господи... Что такое?.. Свят... свят...
Ветер срывает одежду, мокрой тряпкой бьёт в лицо. Мотается над входом корпуса лампочка, брыжжет по лужам бледным светом. Задыхаясь, подбежал старик к окнам, заглянул — и непослушными сделались ноги, не держут дряхлого тела; пляшут огненные языки на полу, на деревянных подмостках.
— Пожар!.. По-жа-ар!
Тащится Максим к своей будке, а ему кажется: бежит он быстрее ветра, как некогда мальчишкой бегал. В ненастной ночи бьется слабый его крик, заглушаемый ветром:
— Пожар!.. Горим!.. За-вод го-рит!..
Подбежал к будке, в обычном месте нащупал болт и тревожные звоны, непохожие на часовые переклички, забились в сырой темноте.
— Ох, что же не слышит никто?.. Ох, что же никто не отзывается?..
А окна машинного отдела ярче и ярче светятся.
— По...жа..ар!..
Услыхали. У контрольных ворот надрывно заплакал набатный колокол, и со всех сторон откликнулись ему тревожными необычными криками чугунные доски,
***

Рабочий точильного отдела Павел Нечаев поздно вернулся с собрания партийной ячейки и долго не мог уснуть в темной и душной своей каморке. В его сознании быстро проносились яркие, словно гонимые ветром осенние листья, мысли о том, что говорил приехавший из Москвы докладчик:
«.. На обломках самодержавного строя буржуазия пыталась построить свое царство, но рабочая волна смыла его, как бурная река в половодье смывает нечистоты и мусор, накопившиеся за долгую зиму.
Небывалое половодье затопило страну, кружатся и бьются в половодье заводы и фабрики, города и деревни, — ищут широкого и свободного русла, чтобы бодро плыть к новой жизни... Новый хозяин показывает им путь... На окраинах, на Кубани и в Архангельске, — скопляются белогвардейские банды и английские войска усмирять вскипевшую Россию. В тылу фабриканты и помещики трусливо ежатся, бегут, шпионят... Много предстоит борьбы, много предстоит лишений...»
Незаметно Павел уснул, и ему показалось: только что закрыл он глаза — подошла мать и разбудила. Она была одета наспех в темную юбку и старую ватную кацавейку. Седые волосы выбились из-под ситцевого платка, и мать не подбирала их привычными движениями рук.
— Ты что? — спросил Павел.
— Што-то стряслось... Должно, на заводе. Слышишь— шумят.
И только сейчас Павел услыхал с каждым мгновением крепнувший гул казармы: хлопали двери, кричали женщины, плакали разбуженные дети. Кто-то, громко стуча сапогами о цементный пол, пробежал по коридору, крича:
— Пожар!.. Вста...вай...те!
И бились в окно глухие набатные звоны.
Павел торопливо оделся и, находу застегивая куртку, без фуражки выбежал из каморки. По обеим сторонам длинного коридора распахивались двери, выбрасывая полуодетых женщин, рабочих в расстегнутых пиджаках.
На улице мимо казармы мелькали темные фигуры людей, гулко топая, ругаясь и плача. Они походили на вороха гнилых листьев, сброшенных осенью на землю, ветер крутил их, сгоняя в кучу, разбрасывая по-одиночке.
Заревел тревожный заводский гудок.
Крикнет и перестанет, и снова, и снова крикнет. Так без конца кричал он, нагоняя тоску и страх.
Промчали паровую машину лошади, взбешенные криками и светом факелов.
Над темными корпусами зарделось багровое зарево, и дым тяжелым облаком повис над заводом.
У машинного отдела Павел увидал, как из разбитых окон корпуса тянулись огненные руки, шарили по кирпичной стене, горячими пальцами комкали деревянные переплеты оконных рам и, обуглив, бросали на мокрую землю. За провалами окон бились огненные птицы, то низко приседая на полу, то взлетая под самый потолок, крутясь золотыми спиралями.
С каждой минутой росла толпа, освещаемая багровым светом, ненужно суетливая и беспомощная. Прибежал управляющий заводом, махал руками, то подбегая к толпе, то бросаясь к горящему зданию:
— Братцы, помогайте!.. Рукава!.. Сюда рукава! На стояк навинчивай! Что стоите? Помогай!
От его крика и суматошных движений не было толку. Пожарные в медных касках сами знали, что нужно делать. Сзади за толпой запыхтела машина, взбухли длинные змеи рукавов и с хлопаньем вылетели из брандсбоев струи воды.
На крыше двое стучали топорами по кровельному железу. В пробитые ими дыры повалил густой черный дым.
— Рукав! — крикнул один, свесившись с края крыши.
Сзади корпуса, куда еще не дошел огонь, подали рукав.
— Пускай!
Струя воды метнулась на чердак. В слуховое окно пробилось пламя, железная кровля начала коробиться, как подожженная бумага. Пожарные бросили рукав и побежали, нагибаясь и скользя сапогами по жести. В пробитые дыры забили огненные фонтаны.
— Слезайте, черти!.. Сгорите!.. — кричали снизу.
Одному удалось добежать до лестницы, и он торопливо начал спускаться, бросая взгляды на отставшего товарища. Желтые клубы дыма скрывали крышу от глаз толпы; когда под порывом ветра дым рассеивался, видно было, как стоял, согнувшись пожарный, закрывая лицо руками.
— Беги! — кричали ему снизу.
— Сгоришь!
— АЙ!.. Ай, батюшки! — взвизгивали женшины.
— Кто это там? — спросил Нечаев у стоявших рядом рабочих.
— Алешка токарь.
— Вот дурной, сгорит ведь...
Рядом с Павлом стояла молодая девушка. Она стягивала на груди большой серый платок и широко раскрытыми глазами, не моргая, смотрела вверх. Ее маленькие красивые губы все время передергивались и что-то неслышно шептали. Пристально посмотрев на девушку, Павел едва узнал Маню Петрову, — Алешкину невесту, — так необычно строго было ее лицо. Он хотел тряхнуть ее за плечо и сказать несколько бодрых слов, как вдруг толпа ахнула. Пожарный на крыше поскользнулся и упал; докатившись до жолоба, он вцепился в него руками. Пушистыми лисьими хвостами завивался вокруг жолоба огонь. Черная фигура в медной каске корчилась в огне, пытаясь встать.
Павел снова взглянул на Маню. Ее лицо было бело, как бумага, губы плотно сжаты, а широко раскрытые глаза смотрели на черную фигуру в огне.
Алешка в последний раз судорожно передернулся, разжал руки и, тяжелым мешком перевалившись через жолоб, упал с крыши.
— А-а-а! — дико закричала Маня и смолкла; закрыв глаза, она медленно повалилась на землю.
Толпа всколыхнулась, зашумела. Рабочие окружили черное тело у стены, женщины нагнулись над девушкой.
— Воды!
Мальчишка принес в картузе воду и вылил на голову Мани. Она не открыла глаз, только забилась мелкой дрожью, и пена выступила на посиневших ее губах.
— В больницу!
— Лошадь!
— Дьяволы! — закричал жуткий голос, — лошадь! Человек помирает!
Подкатил полок. На нем темным комом лежал Алешка.
На медной его каске вспыхивали красные отблески огня. Девушку положили рядом, и лошадь пошла между двумя расступившимися стенами людей...
Пожар бушевал яростней. Часть стены на третьем этаже вдруг качнулась и с глухим гулом рухнула вниз, открыв огромную зияющую дыру.
— Двери!.. Двери.. — закричал управляющий, бегая у паровой машины. — Точильный отдел займется!.. Двери!
Машинный и точильный отделы находились в одном корпусе, разделяемые железной дверью. Этой дверью огонь мог перекинуться в точильные мастерские.
Химик Тип успокаивал управляющего:
— А может быть она закрыта.
— Нет же, я знаю... Я проходил после работы по отделам... Братцы!.. Как же так?
Может, кто закроет?.. Награды сто рублей выхлопочу у Аким Никитича. Братцы!
Толпа молчала. Кто-то тихо сказал;
— Ишь, ловкий какой... Жисть дороже ста рублей. Сам попробовал бы.
— Ведь встанет завод, — куда пойдете?.. Эх, вы-ы...
Нечаев пробился из толпы к машине. Он не сознавал, что делает: шум пожара, гул толпы, жуткий крик Мани Петровой, Алешка, черным комом падающий с крыши, — переплелись клубком горячих образов, туманящих сознание, гнавших буйными толчками кровь.
— Я пойду!.. Ну-ка, обдайте водой!
Чьи-то торопливые руки вылили на него несколько ведер воды, и Павел, вздрогнув от внезапного холода, побежал вдоль корпуса к точильному отделу. У окна, запудренного изнутри белой пылью, он остановился и, ударив несколько раз топором, вышиб переплеты рамы. Как очутился в руках топор — Павел не помнил: сунул ли пожарный, вырвал ли у кого сам,
Из окна валил удушливый серый дым, Нечаев влез на подоконник и спрыгнул вниз.
Красные отблески огня освещали посреди мастерской «хоры», у стен — прилавки с точильными машинками. Под потолком к разбитому окну медленно плыли клубы желто-серого дыма. Дышалось легко. Двери, соединяющие точильный отдел с машинным, были на втором этаже. Мимо «хор», по гулкому в пустом корпусе полу, Павел вышел на лестничную площадку и по каменным ступеням вбежал на второй этаж.
Здесь дым лежал толстыми частями от потолка до пола. Сделав несколько шагов, Павел задохнулся. Легкие жадно потянули воздух, но грудь и горло наполнились горьким противным дымом. Быстрыми молоточками застучала в висках кровь, железный обруч крепко стянул голову и в ушах, но слышались колокольные звоны. Павел зашатался, ухватился рукой за чугунную колонну, но колонна рванулась в сторону, и он упал.
По полу текла струя свежего воздуха, Нечаев медленно пополз вперед, касаясь лицом досок, жадно вдыхая воздух вместе с белой фарфоровой пылью. Иногда клубы дыма падали на него тяжелым облаком.
Тогда он лежал неподвижно, тихо дышал, закрывая рот и нос подолом мокрой рубахи. Ему казалось, что ползет он уже несколько часов. Может быть и пожар давно потушен и толпа разошлась, а он все ползет, ползет...
Павел вскочил на ноги и тут же, задохнувшись, упал. Впереди стена бросала в лицо тучи дыма. За дымом где-то далеко мелькнули тусклые ленты огня.
«Дверь!»
Лежа на полу, он помахал перед лицом руками, разгоняя дым, но от этого дым повалил гуще. Павел с трудом протащил вперед свое тело, и правая рука его наткнулась на теплое железо. Слабеющими пальцами он вцепился в край двери и потянул ее. Дверь легко можно было закрыть одной рукой, но сейчас она была неимоверно тяжелой. Напрягал все силы, он оттянул дверь от стены и, переменив положение рук, стал толкать ее вперед; она не поддавалась. Тогда Павел лег на спину и, ударяя по железу ногами, толкал дверь. Иногда ему казалось, что он теряет сознание, но все же ноги его поднимались и били в железо. Гарь и дым уменьшились.
Подняв голову, Павел-не увидел впереди желтого огня.
«Закрыл».
Скользя пальцами по железу, он нащупал щеколду и повернул ее. Сил больше не было. В голове гудели далекие звоны, и невидимый обруч сильнее стискивал виски.
Нечаев вскинул голову и больно ударился теменем о «хоры». Он протянул руку, нащупал алебастровую форму и, увидав бледный прямоугольник окна, бросил в него форму. И опять сознание угасло...
Очнулся Павел на прилавке у разбитого окна. Свежий воздух холодком бил в лицо.
Внизу в темноте светились электрические лампочки и красные пятна факелов, гудела толпа.
Павел сполз с прилавка и, пошатнувшись, сел на пол.
«Ослабел как ребенок... Чудно...» И медленно пополз к выходу.
***
Прошло восемь лет.
Зловещим штормом вскипела и погасла гражданская война. Утихло буйное половодье первых лет революции. Заводы и фабрики, города и деревни по-новому новую начали жизнь. На торфяных болотах, на быстринах рек выростали электростанции, бросая свою энергию за сотни верст. В деревнях и селах, в глухомани, изумительным светом вспыхнули электрические лампочки, электрифицировались фабрики...
В Москве директор огромного фарфорового завода Павел Александрович Нечаев спешил на вокзал после совещания в тресте. Он был радостно возбужден решением совещания электрифицировать завод. Он думал о тех возможностях и перспективах, которые открылись перед заводом. В его сознании проносились прошлые годы: пожар завода, фронт, восстановление сгоревшего машинного отдела. Теперь этот отдел, значительно расширенный, работающий по новым принципам, — тонна за тонной бросает в точильные мастерские фарфоровую массу... И как будто не было жутких и голодных лет. С каждым годом крепнет завод, новый хозяин надежно и твердо управляет многоэтажными корпусами...

У вокзала робко подошла к Нечаеву оборванная фигура, протянула руку:
— Гражданин, подайте сколько можете бывшему... человеку...
Нечаев мельком взглянул в обрюзгшее лицо нищего и в тусклых его глазах, в большом мясистом носе увидел что-то знакомое, полузабытое. Он сунул в протянутую ладонь гривенник и, взяв билет, торопливо пошел в вагон.
Когда поезд тронулся и за окном побежали станционные здания, мосты, деревья, Павел Александрович продолжал думать:
«Где я видел этого нищего?.. Я где-то слышал его голос».
И вдруг пальцы, державшие папиросу, дрогнули. Нечаев прищурил глаза и крепче сжал губы. Он вспомнил и, все еще боясь верить, мысленным своим взором разглядывал запечатленное в памяти лицо.
Сомнений не было: оборванный нищий, робко протянувший ладонь, был Аким Никитич Карпухин, бывший миллионер, гроза рабочих, хозяин завода.
***
Александр Перегудов. Рисунки: Владимира Козлинского. Публикуется по журналу «30 дней», № 5 за 1929 год.
Из собрания МИРА коллекция