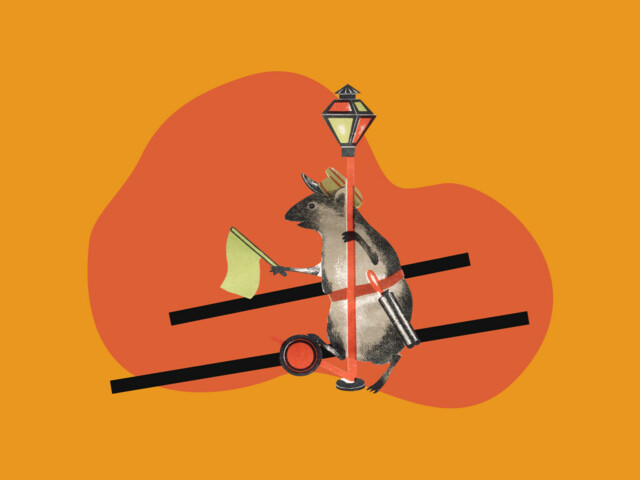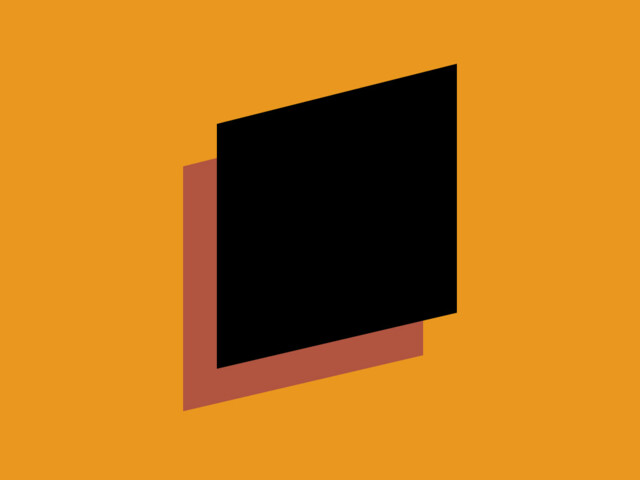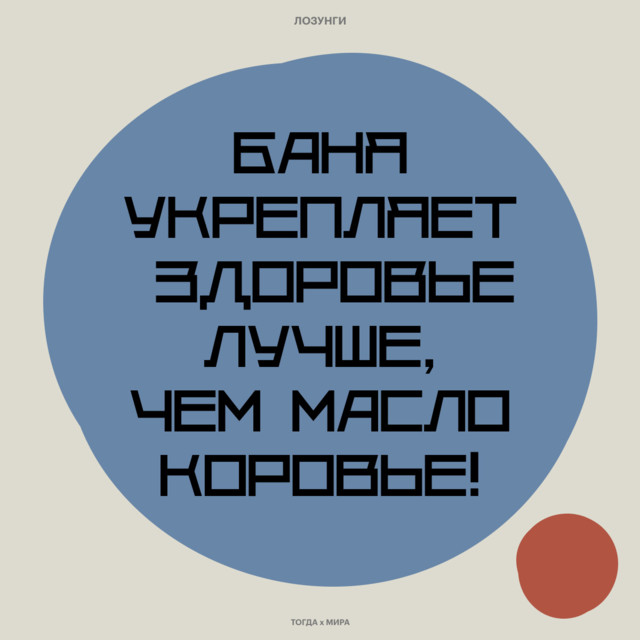«Старший конюх». Пётр Ширяев

С того дня, как серая Лесть была куплена и, казалось, надолго водворилась в конюшне наездника Сабурова, старший конюх Андрей перестал опаздывать на уборку, чаще стал умываться и неожиданно для всех бросил пить и купил себе новый картуз с широким лаковым козырьком. Наездник Курочкин, как-то вечером в трактире у Митрича, поманил вошедшего Андрея к своему столику. Поманил, конечно, с единственным умыслом позубоскалить над его хозяином Сабуровым. Полуграмотный, грубый, бывший лихач-извозчик, Курочкин не любил Сабурова за его образованность, за то, что он, один из всех наездников, ходил в театры и на концерты и жил жизнью не такой, как все остальные наездники. «Ба-а-рин!..» — насмешливо говорил Курочкин, намекая на происхождение Сабурова, рожденного на барском дворе от скотницы Марфы и забулдыги помещика.
Как всегда по вечерам, в трактире было шумно и тесно: наездники, конюхи, мелкие владельцы, барышники, извозчики пили чай, водку из-под полы, закусывали яичницей с колбасой или селянкой, выгоняли из себя седьмой пот и гудели разноголосым говором, расшитым, как ворот Митричевой рубахи, цветистой руганью.
За столиком с Курочкиным сидели еще два человека, один — неизвестный Андрею, молодой, с нахальными усиками и бриллиантовым перстнем на мизинце, и другой — богатый барышник с Мытной, ласковый и хитрый Михал Михалыч Груздев. С Груздевым у Курочкина были постоянные дела по покупке и продаже лошадей. Михал Михалыч первый протянул руку Андрею и тенорком пропел:
— Андрюша, здравствуй, сынок, как жив-здоров, сто лет не видал тебя?!
С достоинством Андрей поздоровался со всеми троими за руку и присел; новый картуз снял и положил себе на колени.
— Слыхал, хозяин твой покупочку для Бурмина устроил, — продолжал Груздев, поглаживая острую бородку, — кобылка ничего, хороших кровей по аттестату. Бурмину Аристарху Сергеичу самый раз, завистной он до орловских-то! Только поспешил твой хозяин с покупкой-то, вот что, сынок! Поторопился, — кобылу можно бы за полцены взять. Лошадка-то не тово, порядочку нет в ней, и кто знает? — может и не будет его, порядку-то, лошадь с ездой, а силы нет, заморенная, а когда силы нет, от езды и пагуба верная. И-и-их, сколько перебывало таких у меня!.. Больших денег мне стоили!..
Мясистое, распаренное лицо Курочкина, как треснувший арбуз с темными семечками, растворилось в чернозубой улыбке, ехидной и торжествующей. Перебивая Груздева и под столом толкая ногу молодого человека в бриллиантовом перстне, он сказал:
— Передай ты своему барину предложеньице: покупатель есть на кобылу, вот! —
Курочкин кивнул на соседа в перстне: — Иван Александрович купить хочет, за наличный расчет, сейчас и денежки на кон и могарычи выпьем.
Андрей посмотрел на Ивана Александровича, потом на Курочкина и надел картуз.
— Сказал бы я вам, Василь Родивоныч, д... — проговорил он и встал.
Курочкин придержал его за рукав.
— Подожди, дело говорю! Иван Александрович на действующую армию ранцы поставляет, понимаешь, а на ранцы кожа нужна, кобыла-то как раз...
Курочкин не кончил, потому что здесь произошло нечто, заставившее много говорить всех, кто так или иначе был близок к миру лошадей, наездников и барышников Андрей четко, на весь трактир, выругался, сорвал с себя новый, с широким лаковым козырьком картуз и шлепнул его наземь. А когда за всеми столиками стало вдруг тихо и к нему протянулось всеобщее внимание, он во всеуслышанье предложил Курочкину пари:
— Вот тебе паспорт мой в заклад при свидетелях и расписку сейчас написать могу... На два года без жалованья конюхом к тебе заступлю, ежели кобыла наша не объедет через полтора месяца любую из твоей конюшни! Хочешь?
Курочкин засмеялся.
— Сбавь, Андрюша, широко шагаешь, ширинка у тебя с барином лопнет!
Андрей вытащил из кармана паспорт и положил на стол перед Курочкиным.
— Вот! Магната твоего объедет, а расписку сейчас при свидетелях подписать могу!
Вороной Магнат был лучшей лошадью в конюшне Курочкина, и слова Андрея, видимо, задели его за живое. Он взял паспорт Андрея, повертел его в короткопалых руках и, чувствуя, как много глаз выжидающе смотрят на него, деланно ухмыльнулся и бросил паспорт:
— Язык, он без костей, трепи сколько хошь, а в конюха я тебя и задаром не возьму на один день, не токмо на два года!
Курочкин не торопясь вытянул из кармана бумажник, порылся в нем и при общем молчании выложил на стол пятисотенную бумажку. Разгладил ее и, смотря не на Андрея, а на Михал Михалыча Груздева, проговорил так, чтоб всем было слышно:
— А если ты с твоим барином хочешь спор делать, то соответствуй, клади на кон; на паспорт твой и на расписку мне наплевать, языком трепать я не умею. Магната вы объедете, когда рак свистнет, понял?
Лицо Андрея сразу поглупело. Он смотрел на пятисотенный билет под рукой Курочкина и не знал, что ответить. Кругом засмеялись. Подошедший Митрич снисходительно похлопал его по плечу и, подмигивая Курочкину, сказал:
— Брось, Андрюша, разве с ними договоришься, вишь, народ какой! Сразу и деньги на кон! Брось!
А кто-то крикнул:
— Не сдавайся, Андрей! Вытаскивай тыщу, не жалей...
Конфуз Андрея был бы полным и окончательным, если бы не случилось тут одного обстоятельства, как раз и заставившего потом долго говорить обо всем этом происшествии.
***

Каждый вечер, после бегового дня, в трактире Митрича появлялась странная, запоминающаяся с одного взгляда фигура. Высокий старик, в старомодном купеческом сюртуке, с длинной бородой, похожей на расчесанный моченец. Звали его Семен Андреич Девяткин. В Замоскворечье у него был рыбный лабаз. Больше ничего и никто не знал о нем. Приходя в трактир, он выбирал столик где-нибудь в углу, вытаскивал из заднего кармана своего длиннополого сюртука чашку и блюдце, как это делают старообрядцы, и заказывал пару чая. Молчаливый и неразговорчивый, согнувшись над столиком, который был слишком низок для его высокого роста, насупив густые мохнатые брови, он пил чай всегда в одиночестве и был похож на старого филина, сидящего где-нибудь в лесу, на пне. Посетители трактира, привыкшие к нему, не замечали его, как не замечают знакомую мебель. И вот в тот момент, когда сконфуженный Андрей, подняв картуз, низко на глаза нахлобучил его и уже повернулся, чтобы отойти от столика торжествующего Курочкина, Семен Андреич Девяткин встал и, сутулясь, подошел к ним.
— Наше вам почтенье!
Курочкин, Груздев и многие другие, толпившиеся у столика, переглянулись. Девяткин, прихватывая рукавом моченцовую бороду, сунул руку во внутренний карман глухого, со множеством пуговиц, жилета и извлек оттуда сверток в черном потертом коленкоре. Положив его на стол, Девяткин развернул коленкор. Отрез черного коленкора заменял ему бумажник. Кредитки разного достоинства были аккуратно сложены по сотням, вверху мелкие купюры, внизу сотенные и полусотенные. Вынув пятисотенный билет, Девяткин положил его рядом с пятисоткой Курочкина и указах бородой в сторону Андрея:
— Мы отвечаем за их кобылку наличными!
Некоторое время у столика было молчание, такое напряженное и дружное, что можно было слышать, как бурчит в животе у Митрича. И все видели, как рука Курочкина быстро сунулась вперед по столу и накрыла свою пятисотку, словно испугалась ее исчезновения. Кругом разноголосо заржали. Кто-то свистнул... И мгновенно все симпатии перешли на сторону Андрея.
Михал Михалыч Груздев кашлянул и отодвинулся от стола. Круглое лидо Курочкина, и без того всегда красное, побагровело. Он искал слов и не находил и, незаметно работая пальцами, придвигал к себе свой пятисотенный билет. А Девяткин, высокий, в длиннополом черном сюртуке, стоял над ним, супил мохнатые седые брови и был похож на вещую и страшную птицу, бесшумно прилетевшую к столику.
— Ну, чего ж ты, Василь Родивоныч, оробел? — крикнул кто-то. — Валяй!
— Крой, Василь Радионыч! — поддержали другие, теснее налезая на стол. — Не бойсь, твой Магнат в две четырнадцать, как хошь, приедет! Крой!
Митрич придвинулся к Девяткину и осторожно потянул его за рукав.
— За зря деньги потеряете... Вы хорошо кобылу-то знаете? Порядку в ней никакого нету.
Девяткин посмотрел на него из-под лохматых бровей и ничего не ответил. Курочкин отвалился от столика на спинку стула и сунул в карман свою пятисотку.
— Постороннего человека я в расход вводить не желаю, — проговорил он с деланной и немного смущенной улыбкой, — спор я держать стану с хозяином, а с вами не согласен, наказывать вас не хочу...
Девяткин, ничего не сказав, снова достал свой коленкоровый бумажник, неторопливо положил вниз пятисотрублевый билет и, спрятав тугой сверток во внутренний карман жилета, с той же неторопливостью застегнул жилет и сюртук на все пуговицы. И отошел к своему столику в углу. Почти сейчас же около него очутился Митрич. Смахнул что-то со скатерти салфеткой, поскоблил ногтем, дунул и, потрогав чайник с кипятком, присел к столику.
— Вы, значит, кобылу-то хорошо изволите знать? — спросил он вкрадчиво.
Девяткин налил в блюдце чаю и, водрузив его на пять растопыренных пальцев, подул и погрузил в золотистую влагу моченцовые усы. Выпил блюдце, потом ответил:
— А как же без знати на риск итти собственным достоянием! Я, почтеннейший, — тут Девяткин приложил руку к левой стороне груди, где сюртук заметно оттопыривался, — не на станке их печатаю!
Серые и пытливые глаза Девяткина остановились на лице Митрича с явным недружелюбием, но Митрича недаром звали клещом.
— Неужели Лесть может Магната объехать? — продолжал он выпытывать. — У Магната рекорд в две четырнадцать, и жеребец всего еще не показал, запасец в нем чувствуется.
— Жеребец дельный, — согласился Девяткин и взялся за картуз, — и запас есть у него, это верно! Хо-ро-о-ший жеребец, против сказать ничего нельзя...
Митрич до самых дверей проводил глазами высокую длиннополую фигуру странного старика и вздохнул.
***
Жизнь в конюшне Сабурова начиналась с раннего утра. К четырем часам появлялся Андрей и начинал ругаться с конюхами. Поднять их с постелей было делом нелегким, особенно Ваську. На толчки Андрея в бок, в спину, в живот он переворачивался и мычал:
«Чича-с!» — и мгновенно засыпал снова, лишь только Андрей отходил... «Хозяин идет» — прибегал Андрей к последнему средству.
Тогда Васька спускал ноги с постели и продолжал спать сидя, а окончательно просыпался и начинал походить на человека только за чаем.
Уборка начиналась раздачей лошадям воды и корма. Всего лошадей в конюшне Сабурова было одиннадцать. Привыкшие к строго размеренному режиму, лошади встречали утреннее появление Андрея сдержанным, глуховатым ржаньем, зная, что сейчас им принесут воды, а потом овес и сено. Уткнув в решетчатые двери головы, они блестящими глазами ревниво следили из своих денников за лохматым Васькой и длинным Павлом, двигавшимся по коридору конюшни с ведрами в руках. Некоторые недовольно начинали стучать копытом по деревянному полу или в дверку, когда человек с овсом или водой проходил мимо, в другой денник. И, шлепая губами, глухо, гортанно ворчали, словно кому-то жаловались. Из всех лошадей самым нетерпеливым был караковый четырехлеток Витязь.
Его денник был самый дальний по очереди, и он осужден был видеть, как Васька и длинный Павел и раз, и два, и три проходят с водой и овсом мимо. Прильнув раздувающимися ноздрями к решетке, он косил на приближавшегося конюха горячий, с синим отливом, настороженный глаз, в струнку ставил чуткие уши и замирал:
— Ко мне...
Конюх проходил мимо. Тогда Витязь, в кольцо сгибая красивую шею, откидывался, как на пружинах, на задних ногах, кругом, от двери, взвизгивал и, сделав полный круг по деннику, снова упирался ноздрями в решетчатую дверь и, сердито ударив копытом в накатник, опять косил по коридору блестящий глаз. Конюхов это забавляло, и они нарочно всегда давали ему корм в последнюю очередь. После раздачи корма в конюшне все успокаивалось, и тишина нарушалась лишь мерным хрупаньем овса в одиннадцати парах крепкозубых челюстей.
***
В шесть часов приходил в конюшню Сабуров. Андрей и оба конюха, попив чаю, приступали к чистке лошадей и уборке денников. Караковый Витязь и здесь вел себя не так, как другие, и чистить его приходилось всегда обоим конюхам, а иногда и втроем с Андреем. Витязь боялся, как огня, щекотки, и каждое прикосновение суконкой или скребницей заставляло его танцевать и прыгать и всяческими движениями мешать конюхам. Но зато не было послушнее его, когда дело доходило до копыт. Он сам покорно и охотно поднимал ногу и никогда не пытался опустить ее, пока конюх возился, вычищая крючком и щеткой подошву. И сейчас же с готовностью поднимал другую, лишь только заканчивали чистить одну... Видимо, это доставляло ему большое удовольствие!
До появления серой Лести Витязь был баловнем конюшни; чаще, чем другим, ему перепадали от конюхов, от Андрея и самого Сабурова лакомства, в виде ломтя круто посоленного черного хлеба или куска сахару; сахар он брал одними губами, осторожно и с такой грацией, что даже флегматичный дылда Павел, глядя на него, выразительно сплевывал и, крутя головой, произносил:
— Ну, и конь, провалиться тебе пропадом!..
Первая поездка на Лести сразу и бесповоротно вытеснила каракового красавца на второй план и поставила серую кобылу в центр внимания. Вместе с нею в конюшню вселилось что-то такое, что окрашивает каждый час и день в предпраздничную краску и насыщает невысказываемым ожиданием каждый следующий день. Такими бывают великопостные дни, когда трогаются реки, сползает снег и в шалостях ветра пахнет весной.
Васька и Павел переругались, споря о том: кому убирать вновь приведенную кобылу? Андрей примирил их, взяв всю уборку на себя. Сам поил, сам задавал корм, чистил, делал втиранье, бинтовал и разбинтовывал, и лишь поваживать давал поочередно то Ваське, то Павлу.
После происшествия в трактире Митрича это ожидающее, предпраздничное настроение стало чувствоваться еще заметней. Оба конюха, встречаясь с Курочкиным, не скрывали насмешливых ухмылок, а когда вечерами после уборки сходились с конюхами других конюшен, рассказывали и пересказывали о споре Андрея с Курочкиным, и странный высокий старик с моченцовой бородой и в черном сюртуке вырастал в этих беседах до причудливых очертаний сказочного миллионера, а его пятисотенная бумажка соответственно увеличивалась до многих тысяч...
Так серая, понурая кобыла становилась легендой.
Сабуров, узнав на следующий день о споре Андрея с Курочкиным, обругал Андрея всеми ругательствами, какие знал. Андрей был кроток и не оправдывался. Только под конец не выдержал и с внезапной запальчивостью выкрикнул:
— Да ведь объедем, Алим Иваныч, провалиться вот на месте, ну!
Сабуров внимательно посмотрел в загоревшиеся глаза Андрея и сразу стих.
— Только бы поправилась кобыла! — помолчав, раздумчиво проговорил он.
— Через месяц не узнаете кобылы! — с жаром сказал Андрей. — Не я буду, если...
И Андрей не ошибся.
Через месяц Лесть трудно было узнать. Серая шерсть, в крупных яблоках, лоснилась, как смазанная маслом. Понурость исчезла, и благородная голова уже не висла к ногам. Рослая, широкая, с отличным ребром и почкой, с сухими ногами и с характерным для орловских рысаков косым и просторным плечом. Хвост и грива стали гуще и нежней. От прежней Лести осталась только ласковая покорность, особенно дорогая ухаживающим за ней ежедневно людям.
Васька и Павел сгорали от нетерпения в ожидании того дня, когда наконец серая красавица выедет на беговой круг, на приз. Каждый день между ними возникали нескончаемые споры о том, в какой группе и с какими лошадями поедет Лесть. В их споры вмешивался и сам Андрей, так же, как и они, волнуемый ожиданием, но пытавшийся важно скрывать это. Сабуров не торопился с работой кобылы.
В его неторопливости было вполне естественное желание привести Лесть прежде всего в должный порядок, но, помимо этого, были еще и сомнения: а вдруг все ожидания и надежды не оправдаются? Разве в его практике, да и у других наездников не бывало так: по первой поездке лошадь показывает страшную резвость, а потом никак! Взять того же Витязя! Трехлеткой он показал резвость, исключительную для его возраста, и вот прошел год, а он не едет, и вряд ли когда-нибудь поедет!..

Эти сомнения заставляли Сабурова откладывать со дня на день настоящую работу с кобылой: было страшно расстаться с мечтой... И он с напряженным вниманием, как врач за больным, следил изо дня в день за Лестью и тщательно предусматривал в ее режиме самые незначительные мелочи.
Оба конюха и Андрей догадывались о сомнениях наездника и часто во время уборки или проводки, как будто случайно, но на самом деле вполне сознательно, с единственной целью рассеять эти сомнения и подтолкнуть Сабурова, роняли замечания о том, что кобыла начинает играть, беспокоиться на проводке, сыреть и пр.
В этих сомнениях-и колебаниях незаметно пролетел конец осени и первые месяцы зимы. В половине января Сабуров начал готовить Лесть к призу. Первые проездки делал по Петровскому парку. Блестящий внешний порядок кобылы на работе вполне оправдывал себя. В каждом ее движении Сабуров ощущал не только идеальную слаженность частей, как в механизме, но и душу этого механизма. Покорная и отдатливая Лесть как бы угадывала каждое желание наездника и отдавала себя всю его воле.
В конце третьей недели работы Сабуров поехал на беговой круг. В парке резвую езду делать было невозможно из-за снега и плохой дороги. Андрей тайно от Сабурова, с секундомером в кармане, пробрался тоже на бег.
День был ясный, с легким морозцем. Беговой круг тускло светился разметенным с утра льдом. Дутые шины американки, мягко шипели по зеркальной ледяной дорожке, и хрупко вонзались в лед острые шипы легких подков. Сабуров промял кобылу на два полных круга и, когда более резво поехал на третий, увидел вдруг въезжающего на ипподром на вороном Магнате Курочкина, а у скаковой беседки притаившегося Андрея. Курочкин, очевидно, ждал появления Лести на кругу и выехал прикинуться с ней. Сабурову вспомнился спор в трактире Митрича, и он долго смотрел, как по другой стороне круга широким, уверенным махом идет навстречу ему вороной жеребец.
«Сейчас встретимся, и он повернет за следом», — подумал он и слегка послал кобылу.
Курочкин действительно круто повернул жеребца и упер его в колесо американки Сабурова.
Лесть, чуя другую лошадь за следом, сама прибавила ходу. Сабуров слышал сзади, в спину, горячее дыхание Магната, но не оглядывался и невольно, сам того не замечая, высылал кобылу. У скаковой беседки голова Магната вдруг выдвинулась слева, и жеребец прибавляя рысь, стал обходить кобылу.
Сабуров видел, как из-за беседки выбежал. Андрей с секундомером в руке и что-то прокричал ему, видел уплывавшую вперед широкую спину Курочкина и, забывая, что он едет не на призу, бросил вперед, вслед уходившему Курочкину кобылу, достал его и мгновенно понял по этому броску Лести, что она достойная соперница классному Магнату. Видел, как Курочкин оглянулся и в посыле поднял хлыст, тщетно пытаясь уйти от наседавшей Лести.
Сабуров остановил Лесть и повернул назад, к выезду с круга...
***
Пётр Ширяев. Рисунки: Владимир Козлинский. Публикуется по журналу «30 дней», № 8 за 1929 год.
Из собрания МИРА коллекция