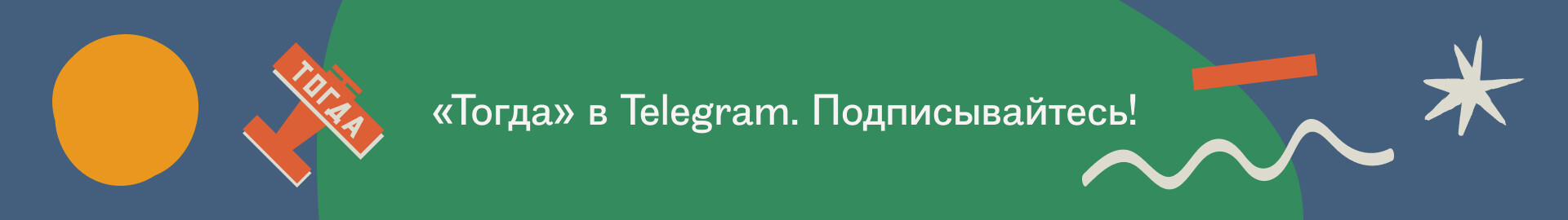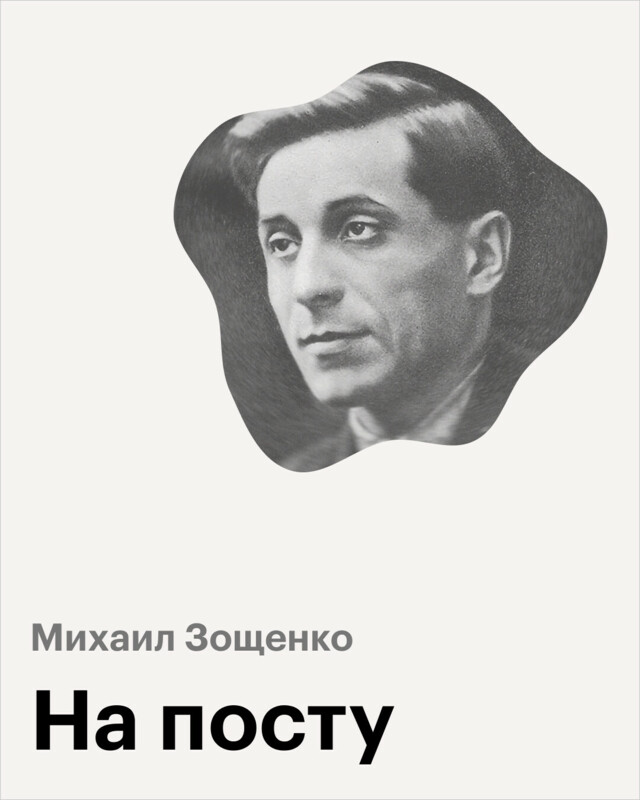«Автор». Валентин Катаев

Молодой человек написал пьесу.
Писал он ее жадно, запоем, по ночам. Он закуривал папиросу от папиросы и едва успевал высыпать окурки из пепельницы в корзину для бумаг.
Две недели пьеса лежала у заведующего литературной частью театра на рыжем подоконнике. Была осень. Окно подтекало. Пьеса молодого человека слегка отсырела.
В комнате завлита лежало еще полтораста других пьес. К рукописям были пришпилены регистрационные карточки. Ежедневно заведующий литературной частью заполнял десяток из них приблизительно в таком духе:
Название— «Разными путями». Число действий—«пять». Автор «Николай Петрович Безенчугский». Народных сцен — «нет». Число главных действующих лип: «мужских —восемь, женских — три» и т. д. Заключение — «отклонить».
Однажды в начале третьей недели заведующий литературной частью потянул к себе пьесу молодого человека. Он прочитал первые шесть страниц и улыбнулся. Брови его весело сошлись над переносицей. Он сказал про себя «гм» и пересел на диван, чтобы было удобнее читать.
На другой день молодой человек услышал из телефонной трубки очень маленький, очень вежливый и очень осторожный голос заведующего литературной частью:
— Ах, вы автор пьесы «Заря»? Очень приятно. Видите ли, гм, лично мне ваша пьеса понравилась. Но у нас в театре еще несколько инстанций. Так, может быть, вы как-нибудь ознакомили бы, так сказать, наши инстанции с вашей драмой. Что? Комедия? Нет, по-моему, все-таки ваша вещь скорее лирическая драма, хотя, разумеется, вы как автор...
Но молодой человек уже плохо слушает. Он— автор, и его приглашают читать пьесу.
О! Такие вещи случаются не каждый день и даже не каждый год. И не со всяким.
— Так, значит, разрешите фиксировать день и час; у нас сегодня среда. Так. Тогда,
значит, разрешите вас просить в воскресенье ровно в два часа, как раз у нас утренник, так что... Вы в нашем театре бывали?
— О!
— В таком случае прошу вас пожаловать прямо в контору. Это внизу. Совершенно верно, там, где администратор. И попросите вызвать меня. Да. Или Семена Васильевича. Да. Это один из наших актеров. Он очень благоволит к молодым драматургам. Да. Вы просто назовите себя. Значит, в воскресенье, в два. Пока, всего доброго.
***
В назначенный день и час автор переступает порог театра. В первый раз в жизни он входит в знакомый с детства и уважаемый дом не как простой смертный, купивший в кассе билет, а как посвященный, со двора, через контору.
В конторе узкий коридорчик, вешалка, где висят шубы «своих». Тут же на стене стеклянная витрина с выставленными в ней письмами, присланными актерам и «своим» на адрес театра. Автор называет себя и просит доложить о своем приходе заведующему литературной частью. Служитель не проявляет никакого интереса к личности автора. Он не предлагает ему раздеться. Уходит доложить. Автор стоит в узком коридорчике, перед зеркалом, в шубе, без шапки, в галошах и топчется на месте, мешая одевающимся и раздевающимся «своим». Внутренний боковой карман авторского пиджака раздут. Из него выпирает изящно переплетенная в малиновую тетрадь пьеса.
На одну минуту перед автором раскрывается дверь, ведущая в кабинет администратора. Там горит зеленая лампа. В кабинет быстро вбегает служитель в пенсне и просит валерьяновых капель. Безукоризненный толстенький гражданин с полными ангельски-голубыми глазами отпирает аптечку и выдает капли. Это в зрительном зале с кем-то сделалось дурно. За столиком сидит дежурный милиционер.
То и дело раздаются телефонные звонки, и ангельский негромкий голос говорит:
— На сегодня все билеты проданы. Ничего не могу для вас сделать.
— Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Кончается второй акт. Да. До свидания.
— Алло! Я слушаю вас, Александра Николаевича нет в театре.
— Нет. На сегодня все продано. Ничего сделать для вас не могу.
Шурша простым шелковым платьем стального цвета, проходит надменная чернобровая, седеющая дама. Все расступаются. Она милостиво улыбается. На иодистых от табаку пальцах блестят кольца. Веет миндальной горечью хороших духов. Это «сама N», знаменитая народная артистка республики, украшение театра.
Автор в чистилище, он еще, конечно, не «свой», но уже и не «чужой». Он в трепете. «Потусторонняя» театральная жизнь уже готова показать ему если не все, то, по крайней мере, часть своих тайн.
— Здравствуйте, дорогой автор! Что же вы не раздеваетесь... Простите—ваше имя и отчество?..
— Это заведующий литературной частью. Он потирает руки.
— Николай Николаевич.
— Очень хорошо. Мы вас ждем, Николай Николаевич. Лука Иванович, голубчик, помогите Николаю Николаевичу раздеться. Пожалуйте, пожалуйте. Ну-с, так.
Служитель — Лука Иванович — преображается. Он подскакивает к автору. Он ловко подхватывает авторову шубу и вешает ее на вешалку среди прочих шуб «своих».
Заведующий литературной частью бережно берет онемевшего автора за локоть и ведет. Они идут по пустынному фойе, под ногами толстый ковер. За плотно запертыми дверьми стоит напряженная тишина зрительного зала. Среди этой тишины изредка слышатся громкие голоса актеров. Почти крики.
— Где читка? — спрашивает высокий, очень красивый мужчина, эластично обгоняя заведующего литературной частью.
— В управлении, — отвечает завлит.
Автор даже не подозревает, что в театре уже все знают о новой пьесе. Все заинтересованы в ней. Пьеса—это драгоценное сырье, необходимое «для производства», как воздух. Еще не зная ее, режиссеры хотят ее ставить, актеры — в ней играть, кассирши — продавать на нее билеты, художники — делать декорации... Автор в центре общих интересов.
Но вот — управление. Оно на втором этаже, рядом с верхним фойе. Сколько раз автор еще тогда, когда он был «просто зрителем», проходил мимо этой стеклянной двери с надписью «дирекция» и сколько раз он печально думал о том, что никогда в жизни, вероятно, ему не удастся переступить ее порога.
В «дирекции» — за плотной портьерой — несколько конторских столов, телефон, машинистка стучит на Ундервуде (переписывает, небось, роли). На стенах — живопись: эскизы декораций, афиши последней премьеры. С какой завистью и ревностью смотрит автор на эти вещественные свидетельства чужой славы. Неужели же скоро тут будет висеть новая афиша с его именем, четко отпечатанным в правом верхнем углу — против известной всему миру квадратной марки театра.
Новая дверь. Плотная портьера.
— Пожалуйте, Николай Николаевич, сюда.
***

Мягкая глухая комната. За окнами — крыши, дождь. Горит лампа. Длинный овальный стол, покрытый толстым серым сукном. Тишина. В стаканах красный чай. Из мягких кресел при появлении автора поднимаются немолодые корректные интеллигентные люди в черных костюмах, в накрахмаленных сорочках.
— Позвольте вам представить автора.
Автор обходит вставших людей и, шаркая ногами, как гимназист, пожимает руки.
Непривычный, острый крахмаленный воротничок впивается автору в шеки. Автор готов провалиться сквозь землю. Перед ним — портретная галерея знаменитых, народных, заслуженных, популярных. Он узнает их всех вместе и каждого в отдельности. Они, эти люди, знакомы ему с детства по бесконечному количеству фотографий, открыток, групп... Какой ужас, если пьеса окажется мерзкой. Как стыдно будет перед этими вежливыми людьми!
— Ну-с, приступили.
Задыхаясь от волнения, автор раскрывает тетрадь и придавленным голосом, идущим из противоестественно сжатого горла, голосом, который кажется ему отвратительным, начинает читать действующих лиц.
Один из народных поправляет на курносом носу пенсне и вынимает золотые часы.
— Четверть третьего, —говорит он громко и с музыкальным звоном захлопывает крышку.
Автор читает. Стоит мертвая тишина. Великие сидят как истуканы. Ни одно чувство не выражается на их монументальных лицах. Автор кончил. За окнами смеркалось.
Народный вынимает часы.
— Без двадцати пять, — говорит он бесстрастно.
— Многовато, — многозначительно замечает толстый заслуженный с лысой головой.
— Сократим — вздыхает популярный комик.
Наступает страшная тишина. Автор сидит, и все сидят. Автор знает, что ему надо уйти. Но это выше его сил. Он должен узнать мнение ареопага. Ареопаг абсолютно и бесстрастно безмолвствует. Минута. Две. Три. Дальше — невозможно.
— Ну-с, говорит заведующий литературной частью. Автор встает. Все встают.
— Ну-с, Николай Николаевич, спасибо за доставленное удовольствие. Разрешите вам позвонить завтра, часиков в одиннадцать утра.
— Спасибо за доставленное удовольствие, — говорят маститые по очереди, бесстрастно пожимая руку автора. Спасибо за доставленное удовольствие. Спасибо за доставленное удовольствие.
Автор не спит ночь. Утром — звонок. Завлит назначает новую читку более расширенному кругу актеров, почти всей труппе. Значит, пьеса «старикам» понравилась. Еще одно испытание. Это уже не так страшно.
На сей раз читка днем, в будний день, в верхнем фойе. И снова — театр показывает на мгновение автору несколько своих тайн.
Оказывается, в будни днем фойе загораживаются особыми щитами, превращаются в залы и там происходят репетиции. Оттуда доносятся звуки рояля, голоса, пение. Между тем как на дверях, ведущих в зрительный зал, висят большие плакаты: «репетиция началась, входить нельзя».
Театр живет своей сумрачной, будничной жизнью. В буфете, где во время вечерних спектаклей ярко горят матовые кубические фонари модерн, сверкают скатерти, морс воспламеняет жажду и бутерброды с чайной колбасой кажутся вдвое аппетитнее домашних, — там теперь столы обнажены, на стойке кипит вокзальный самовар, в сумерках зимнего дня курят актеры, отдыхающие между двумя «своими сценами», пьют чай актрисы постарше и едят пирожные актрисы помоложе. Откуда-то сверху долетают звуки хора — урок пения.
Вообще выясняется, что в театре, кроме фойе и зрительного зала, еще есть масса всяких комнат, углов, закоулков, зал. Есть — макетная, костюмерная, репертуарная комната, режиссерское управление, бутафорская и еще великое множество иных прочих. Но автору их не показывают. Может быть, впоследствии, когда пьесу примут, когда он станет вполне «своим».
Молодежь принимает пьесу лучше, чем старики. Более несдержанно. Иногда чтение прерывает дружный смех. Иногда вдруг раздается мечтательное восклицание режиссера, подпирающего курчавую голову кулаком:
— Ах, как тут можно здорово сделать на черном бархате! Чорт-е-что!
Черный бархат! Что это такое? Ничего не понятно. Опять— тайна.
Но и после этой читки автору еще не дают немедленного ответа. Лишь на другой день утром его будит телефонный звонок.
— Это Николай Николаевич? С вами говорит Гавриил Осипович. Режиссер театра. Ваша пьеса принята к постановке и поручена мне. Надо с вами повидаться.
***
Ура, слава в кармане! Но радоваться рано. Именно тут-то и начинается настоящее хождение автора по мукам.
Мука номер первый — встреча с режиссером.
Режиссером оказывается тот самый курчавый энтузиаст, который давеча воскликнул насчет черного бархата. Его огненные глаза устремлены вдаль. Он ерошит шевелюру и ходит по комнате взад и вперед перед автором.
— Я влюблен в вашу пьесу, Николай Николаевич! Честное слово — просто влюблен, да и только. Это — поэма. Симфония, богатейший материал для постановки. Вы не думаете? О, не скромничайте. Мы: из вашей пьесы конфетку сделаем. У вас там сколько картин? Четырнадцать, кажется. Так будет — семь! Но вы не беспокойтесь.
Пятая картина у нас пойдет первой, вторую, третью, четвертую картины мы выбрасываем, десятую соединяем с четырнадцатою...
— Позвольте, но у меня так задумано, что в первой картине...
— Это ничего, что задумано. Это даже очень хорошо, что задумано. Но, знаете ли, законы сцены...
Автор с ужасом видит, как режиссерский карандаш со свистом гуляет по тексту, вырывая лучшие (по мнению автора) сцены. Он пытается протестовать, но напрасно. Режиссер с жаром говорит ему о законах театра, о принципах сценического времени. Совершенно ясно, что если спектакль начинается в половине восьмого, то кончиться он обязан никак не позже половины двенадцатого, то-есть должен продолжаться вместе с антрактами четыре часа. Что же делать, если пьесу неопытный автор написал на два часа длиннее положенной нормы. Не может спектакль продолжаться до половины второго! Публика будет бояться опоздать на трамвай и обязательно убежит, не дожидаясь конца.
Автор сражен режиссерскими доводами.
— Скажите, — робко замечает он, — вот вы давеча говорили насчет черного бархата... Что это такое?
— Черный бархат-то?
Режиссер загорается внутренним огнем и раскаленный начинает сиять как звезда.
— Черный бархат — это замечательный декоративный прием. По всему, знаете, рундгоризонту протягивают черный бархат. От этого сцена делается беспредельно глубокой. И я, как раз, имею в виду во второй картине опустить с колосников лампочки, взять их на реостаты, и, вы сами понимаете, можно достигнуть совершенно изумительного эффекта ночного города.
— Да, но у меня во второй картине нет города.
— Это ничего. Он будет. Мы его создадим! Можете быть на этот счет совершенно спокойны. Я прямо-таки влюблен в вашу пьесу... Так что с этой стороны все в порядке...
После этого режиссер на три дня уезжает на дачу писать постановочный план.
Мука номер второй: распределение ролей. Режиссер звонит по телефону.
— Ну, дорогой Николай Николаевич, поздравляю вас: вчера мы распределили роли. Значит, таким образом: Ахтырцева будет играть заслуженный артист Ермаков, его жену — заслуженная артистка Тетина, затем их...
— Позвольте. Извините, я вас перебью. Но ведь Ермаков маленький, толстенький добряк, а у меня Ахтырцев сухой, высокий, надменный старик, с романтической окраской, этакий Дон Кихот, который...
— Простите, Николай Николаевич, я влюблен в вашу пьесу вообще и в образ Ахтырцева в частности. Так что с этой стороны все как будто в порядке. Так-с. А что касается того, что Ахтырцев — Дон Кихот, то я думаю—он скорее Санчо Пансо. Вы меня понимаете? И, между нами говоря, Ермаков замечательный комик.
— Но у меня роль Ахтырцева глубоко трагическая.
— Ну да, ну да, вот именно. Она глубоко трагическая, по существу, а, следовательно, в театре она должна звучать почти комедийно. Я влюблен в ваш талант, но вы еще не знаете законов сцены. Ну-с, так. Значит, дальше: роль их дочери Машеньки будет играть одна из наших замечательнейших актрис — вы, наверное, о ней слышали — Сергейчикова.
— О да, я слышал о Сергейчиковой. Это очень хорошая актриса. Но дело в том, что у меня в пьесе нет дочери Ахтырцева Машеньки, а есть сын Ахтырцева — Николай.
— Ну да, ну да. Вот именно. Поэтому мы и придумали такой трюк — вместо молодого человека обаятельная молоденькая девушка. Я ведь окончательно влюблен в вашу пьесу вообще, а в образ Машеньки в частности.
— Да, но Машеньки нет.
— Это ничего. Она будет. Мы ее создадим... Ну, а что касается остальных, то состав первоклассный. Ну, пока.
Автор начинает мало есть и плохо спать. Под утро ему обычно снятся «рундгоризонт», «реостаты», «черный бархат» и прочие малопонятные, но тревожно-манящие вещи.
Мука номер третий: разговор с художником.
— Здравствуйте, Николай Николаевич. Позвольте с вами познакомиться. Альфред Павлинов. Художник вашего спектакля. Я только что подписал договор с дирекцией.
Я прямо-таки влюблен в вашу пьесу. Это — поэма. Даже скорее не поэма, а такой, понимаете, траги-фарс. Его именно и нужно оформить в-этаком монументально синтетическом стиле. Вы мой макет к царю Эдипу видели? Так вот будет нечто в роде, но только, конечно, более насыщенно. Особенно меня интересует трехмерное разрешение железнодорожного пейзажа. Дерево и свет, и больше ничего, может быть — прожектора. Вам улыбается такая перспектива.
— Перспектива улыбается. Мерси. Но только у меня, извините, в пьесе нет железнодорожного пейзажа.
— Нет? разве? А мне показалось, что в восьмой картине есть. Но это не важно. Я уже вам сказал, что буквально влюблен в ваш шедевр. Так что железнодорожный пейзаж будет. В крайнем случае вы припишете там несколько подходящих слов. Ну, пока. Через месяца два позову вас смотреть макет...
— Как? Через два месяца? Так не скоро? Алло! Алло! Повесил трубку... Ужасно...
Мука номер четвертый — ожидание начала репетиций. Мука номер пятый — ожидание разрешения Главреперткома. Мука номер шестой—звонки знакомых. Это даже не мука, а просто пытка, египетская казнь.
— Здравствуйте, Николай Никозаевич, это говорит Вася. Ну как?
— Что как?
— Скоро будем вас вызывать?
— Не знаю.
— Вы же контромарочку, смотрите, не забудьте. Только чтоб не дальше пятого ряда, а то Сонечка плохо слышит.
— Хорошо, не забуду.
— Так заметано?
— Заметано.
— Гы-гы! Теперь вы знаменитый, с вами страшно на улице раскланиваться — еще, чего доброго, не ответите.
— Отвечу.
— Ну, всего.
— Всего.
— До премьеры. Пока. Кстати, говорят, что для писателя проза — это честная жена, а театр—богатая любовница. Хи-хи. Ну, пока.
— Пока.
— Да, кстати! Мне один знакомый иваново-вознесенский актер говорил, что в этом сезоне ваша пьеса не пойдет.
— Нет, пойдет.
— Пойдет? А мне говорили, что не пойдет. Гы-гы. Переделок много. Ну пока.
— Пока.
И так по тридцать звонков в день. Кошмар!
Наконец разрешение Главреперткома получено.
***

Начинаются муки репетиций. Репетируют мучительно долго. Идя на первую репетицию, автор воображает, что репетировать будут сразу же на сцене. Однако до сцены еще да-а-леко. В одном из самых захудалых закоулков театра стоит стол; за столом сидят актеры с тетрадками в руках и читают под руководством режиссера пьесу. Ничего интересного. Похоже на изучение иностранных языков по системе Берлица. Так проходят месяц и два, пока репетиций не переносят в другое помещение — в фойе, где актеры уже начинают ходить и более или менее «играть».
Между тем где-то в недрах театра художник «клеит макет». В один прекрасный день автора вызывают в театр посмотреть работу художника. Спотыкаясь, автор поднимается и опускается по каким-то узеньким лестничкам, кружит в лабиринте коридорчиков и переходов, о существовании которых в театре до сих пор и не подозревал. Наконец его вводят в комнату, похожую на столярную мастерскую. На ящике сидит режиссер и мечтательно смотрит в угол. В углу стоит художник и, сильно жестикулируя, говорит:
— Уверяю вас, что второй антракт совершенно свободно можно сократить до 15 минут. Трудная монтировка? Ничего подобного. Иван Иванович берется всю перемену механизировать.
— Да, но куда вы денете дом? Он же не поместится. Там кирпичная стена мешает.
— При чем здесь стена, если мы убираем дом под колосники. Пожалуйста, взгляните.
Режиссер, ероша волосы, бросается к художнику, и оба они долго и сосредоточенно смотрят на макет. Это очаровательная игрушка, прекрасно сделанная подробная модель сцены с вращающимся кругом, колосниками, кулисами и всем прочим, размером аршина полтора в длину, ширину и высоту. Автор заглядывает через плечо режиссера и художника. Он восхищен. На маленькой сцене устроены маленькие декорации. Горят крошечные электрические лампочки. Глиняные человечки расставлены на вращающемся диске пола.
У окна макетной два помощника художника в синих халатах строгают, пилят, клеят, красят и вырезают из картона детали макетных декораций.
— Я прямо влюблен в вашу пьесу, — застенчиво говорит один из них автору. Постановка будет что надо. Есть где развернуться. А третий акт пойдет определенно на аплодисменты. Во всю высоту сцены будет стоять восемнадцать зеркал. Красота!
— Но у меня по пьесе нет зеркал.
— Это ничего. У нас будут. Определенно на аплодисменты.
А где-то рядом стучат швейные машины. Это шьют костюмы по специальным эскизам. Иногда дверь в швейную мастерскую открывается, и тогда видны горы цветистых тканей, обрезки холста и фигуры мастериц, которые, сжимая в губах пучки булавок, ползают у ног пришедшей на примерку актрисы.
Проходит еще несколько месяцев. Время премьеры грозно приближается. Уже автор в театре — свой человек. Уже все знают его имя-отчество, и он знает имя-отчество всех. Его беспрепятственно пускают всюду. Он мыкается по фойе, по лестницам, по закоулкам.
Репетиции «перенесены на сцену». Это значит, что премьера на носу. Автор входит по наклонному полу в темный зрительный зал. Он садится рядом с режиссером за столик, на котором горит маленькая электрическая лампочка в оранжевой юбочке. Это его почетное право. Начинается очередная сцена. Актеры еще пе одеты и не загримированы. Еще нет декораций. Вместо декораций специальные условные «выгородки».
Перед режиссером лист чистой бумаги, на котором он быстро записывает все свои замечания.
«Ермаков — слишком медленно. Соснова — ничего не слышно. Никольский закрывает спиной Машеньку. Убрать стол. Чересчур рано музыка. Надо после слов: «вы мне снились» паузу.
Или что-нибудь в этом роде.
Автор уже привык к актерам. Ему уже ничуть не странно, что Ахтырцев не Дон Кихот, а Санчо Пансо и что у него не сын Николай, а дочь Машенька. Его образы отступили перед натиском актерского мастерства, более убедительного, чем его собственная фантазия.
Помощник режиссера мечется по театру со специальной книгой репетиции, куда записывает все, что постановочная часть должна приготовить для спектакля. Все — до самой последней мелочи.
Тем временем во дворе слышится шум мотора. Там — декорационные мастерские.
Электрическая пила режет дерево. Летят стружки. Строятся декорации. Из папье-маше делается бутафория. Художники красят громадными кистями уже выстроенные детали: шкафы, дома, деревья, вагоны.
В люках сцены орудует электротехник и осветитель. Там—сложнейшие распределительные щиты, реостаты, рубильники. Заведующий сценой сидит возле металлического прибора, похожего на кассовый аппарат «националь», и передвигает рычажки множество которых торчит из прибора.
Нажмет один — загораются синие лампочки. Нажмет другой — красные. Третий — свет гаснет. Четвертый— вспыхивает справа вверху. Пятый—слева внизу. Вся осветительная аппаратура у него в руках.
Капельмейстер рассаживает свой оркестр под полом сцены. Гремят пюпитры. Заведующий шумами и звуками носится с какими-то колоколами, баллонами сгущённого газа, свистками, трещотками, при помощи которых будет производить звук идущего дождя, шипящего паровоза, цоканья конских копыт, гром трамваев, свист ветра..
Парикмахер в белом халате красит и расчесывает на болванках парики.
Вся громадная машина театрального производства приведена в движение. Теперь премьера неотвратима.
Готовые декорации, поднятые на невидимых, бесшумных лебедках, скользят в воздухе через сцену. Пробуют свет прожектора. Актеры выходят в гримах и костюмах к рампе. Режиссер командует:
— Подрезать слегка бороду. Больше румянца. Немного седины в виски. Мягче — подбородок.
Рабочие втаскивают мебель,
Автор опять перестает узнавать своих персонажей. Они страшно новы и мучительны в своей новизне.
Администратор посылает в типографию афишу.
Наконец премьера.
Автор сидит в шестом ряду. Он страстно сжимает локоть режиссера. Публика приятно волнуется. Премьера! Свет медленно гаснет. Загорается рампа. Все кончено. Идет занавес.
***
Валентин Катаев. Рисунки: Евгений Мандельберг. Публикуется по журналу «30 дней», № 9 за 1929 год.
Из собрания МИРА коллекция