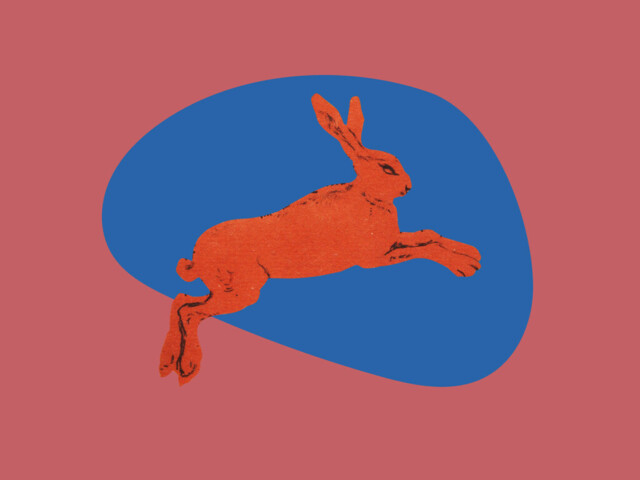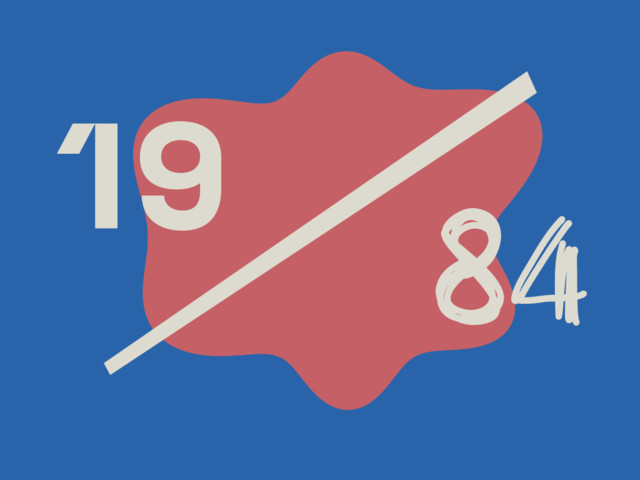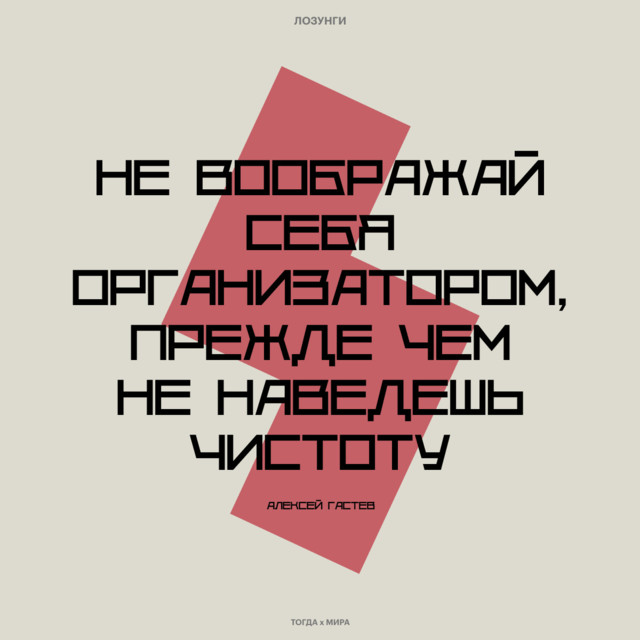«Пляска». Юрий Либединский

Полтора часа Степан Григорьич Шорохов был перед светом незнакомых и близких, бережно и строго слушающих лиц, — он делал доклад на партийной ячейке завода. Внешне этот доклад ничем не отличался от тех тысяч выступлений, которые Шорохов уже провел за свою долгую политическую деятельность. Но теперь вся эта деятельность получила какое-то напряжение, она воссоздавала вокруг него особенный только им одним осязаемый мир возвышенной печали и нежности. И сейчас, вернувшись домой и с порога окинув взглядом кровати, сдвинутые к стенам, и закусочную снедь, пестрящую на белой скатерти, и вино, тепло и багрово светящееся в бутылках, он весь, полный удовлетворенной усталости, сказал:
— Веселой ночки, товарищи...
Этими громкими и приветливыми словами он словно утверждал свое чувство и кидал вызов тому унылому томлению, которое неожиданно проснулось в нем утром, когда Люба спросила, можно ли ей устроить вечорку, и он ответил: «можно», тем ровно ласковым голосом, которым он теперь всегда говорил с ней.
Он хотел пройти в свою комнату; но поднялся веселый гомон, его окружили, вперед протиснулась Люба и с силой схватила Степана Григорьича за отвороты пальто.
— Нет, Степа, мы тебя не пустим! — сказала она. — Нет...— Она просительно и ласково улыбалась, и он на уровне своих губ видел ее зеленовато-голубые, сияющие глаза, обрамленные темно-рыжими ресницами, золотящимися и загнутыми. И Степан Григорьич как-то вдруг на мгновенье потерялся, — и сразу с него стянули пальто и посадили за стол, и какая-то полная, бледная девушка, рядом с которой он оказался, уже угощала его бутербродами с ветчиной.
Он был недоволен собой. «А, впрочем, — мелочь...» отмахнулся он и стал весело подшучивать над тем, что ему никто не предлагает вина.
— Так я сам себе налью, вот...— Он наливал вино, ел, пил, смеялся, а сам с зорким, никогда не покидающим интересом наблюдал за всеми. Сначала вниманье его привлек парень с гитарой, он сидел по другую руку бледной и полной соседки Шорохова.
Ах, милый, милый, милый,
Мой голубь сизокрылый,
Не натягивай на пятки
Желтые перчатки...
— напевал он охриплым, но верным голосом, и, рассыпая смешливые аккорды, переливчато зашелестела его новенькая, шелково-блестящая косоворотка простого покроя.
Девушки засмеялись. Шорохов тоже улыбнулся, с удовольствием разглядывая этого черноволосого парня, с темными родинками на румяном лице. Но одновременно он уже прислушивался к серьезному разговору, который шел с другого конца комнаты из-за ширмы.
— На каждом бюро высказывается, общее собрание — просит слово к порядку, — мы и даем, что с ним делать. По отчету райкома вышел говорить — и сразу просит на продленье. Вот подходят зачеты — враз пошел он резаться по всем. А потом — ах, я перегруженный... Свистулька... — Голос был негромкий, чистый, говорил он ласково и насмешливо.
— Вот ты говоришь, свистулька, а он к нам прикрепленный и как он себя высоко понимает... — заторопилась, заговорила Люба.
— Страшнее кошки зверя нет, Любаша? — переспросил тот, кто рассказывал; и было в этих его словах что-то такое покровительственно-ласковое и нежное, что заставило Шорохова заглянуть за ширму, но он увидел его сзади — темно-русый, кудрявый, мужественный затылок и плечо. Положив ногу на ногу и облокотившись на спинку кровати, парень этот смотрел на Любу, а она говорила, и на лице у нее было полыхающее оживление, И Степану Григорьичу опять стало томительно беспокойно, но он отогнал от себя это чувство и ухватился взглядом за рябого и скуластого парня в черной рубахе, который поодаль от всех стоял около этажерки и листал Любины учебники. Впрочем, он участвовал в общем оживлении, склонив крутую, кругло-обритую голову и щурясь от едкого махорочного дыма цыгарки-самокрутки, которую он держал в углу рта. Этот парень усмехался, прислушиваясь к тому разговору, который шел за ширмой. Похоже, что все это было ему знакомо и даже забавляло его, но:
— Скучновато становится...— сказал он, положив книгу на этажерку.
— А ты бы таблицу логарифмов почитал, сказал гитарист, и опять все засмеялись.
— Сплясать надо...—посмеиваясь сказал рябой, отходя от этажерки и обдергивая рубаху. — Булавин! и он, подойдя к ширме: — сплясать тебе надо, Володя, вот!
— Верно, верно, Володя...—загорелся Любин быстрый говор, — спляши, ну спляши — я прошу тебя! — Она задвигалась, она за руку тянула этого парня, которого назвали Володей Булавиным, а тот не шел и посмеивался, негромко, но звонко...
— А ну, Алеша... заиграй, заиграй, он сам выйдет, — со смехом кричала Люба.
«Поплясал бы я в присядку — сапоги не гнутся, шаровары по пятам, девушки смеются...» пропел гитарист и за ним то же выговорила гитара, и Шорохов не успел вникнуть в грусть этой припевки, как гитарист плашмя положил ладонь на струны; точно стирая этим печальное их дрожание, и крикнул даже как-то очень уж весело:
— А ну, Булавин, дай, дай, дай... — И гитара сразу заговорила быстро, однотонно и гортанно, и в лад ей захлопали в ладоши, и он, расправляя руки, уже выходил на средину комнаты, невысокий ростом, тонкий, в поясе, золотоглазый и смугловато-румяный.
— Шапку дайте... это нельзя без шапки...— сказал он посерьезнев, словно приступил к работе. И по тому, как он посадил кубанку на голову, Степан Григорьич сразу признал в нем казака.
— Ну, а ну, а ну, Сонечка, выходи... выходи... — говорил он и шел через комнату, и его походка все больше попадала в лад гитаре. И вот движения его стройных ног и мерные переборы гитары совпали и слились во что-то неразрывное одно. Он повел плечами и пошел щеголевато-быстро и воинственно, и гитара уже шла за ним.
Он прошел близко около Шорохова, и Шорохов, хлопая в ладоши, увидел его ласковый, дерзкий и серьезный золотисто-карий глаз. А плясун прошел уже мимо полной и бледной соседки Шорохова, мимо гитариста‚ — и перед тем-то, кто сидел за гитаристом, он стал отходить и отходить, и все захлопали сильнее, и Шорохов тоже захлопал сильнее, понимая, что на том языке его движений, на котором он говорил со всеми, эти легкие прыжки и приседанья означали что он просит, вызывает, приказывает плясать. И все сильнее и сильнее стали бить в ладоши, и лица всех стали оживленнее; и Шорохов, вглядываясь во всех, тоже бил в ладоши...
И вот она застенчиво поднялась со своего места: она казалась нескладной, как будто одно плечо ее выше другого, и слишком худы и тонки ее ноги, в серых шерстяных чулках и высоких ботинках. Но вот она развела руками, застенчиво-ласково улыбнулась, хотя рот ее был некрасив — козий и зубы неправильные, но что-то загорелось в ее длинно-прорезанных еврейских глазах, и она вдруг легко и жеманно пошла на него, словно затем, чтобы объяснить ему что-то, но он уже шеголевато-воинственно, небрежно к ее женственности, уходил и уходил от нее.
— Врангель, отдай мне мою ногу, желаю танцовать с Соней, — сказал гитарист, когда плясунья проходила мимо него. «Так вот что с ним...» — подумал Шорохов, постигая почти франтоватую тщательность его одежды и эту прорывавшуюся порой печаль.
И разом открылся ему теплый смысл этой вечеринки...
«Молодые ребята — те новые, которые сменят нас и которые взошли в гражданской войне... И веселятся — и правильно...» —ласково думал он, привычно включая Любу в круг этих новых и молодых.
Но вдруг Степан Григорьич увидел ее лицо. Жадность пылала в сиянии ее глаз и румянце щек. Губы ее были полуоткрыты, и в тепло-багряной полутьме ее рта жемчугом поблескивали ее мелкие зубы.
В такт музыке поводя плечами, смотрела она в лицо Володе, а он перебрасывал себя с ноги на ногу и, подбоченившись, подступал к ней, и за ним с жеманной грустью, по-еврейски поводя плечами и бровями, стремительно неслась — и не двигалась с места Соня, а он уходил и уходил от нее.
«Так вот оно что» —подумал Степан Григорьич, точно находя то слово, которым можно назвать то унылое и немое томление, подступы которого он чувствовал с утра, и сразу, как ветром, унесло его благодушные, подогретые вином, едой и музыкой, грустные и умиленные размышления. «Да, они, эти молодые, веселятся, и так быть должно, но я-то здесь при чем... — уже по-другому продумал Шорохов эту мысль.
Слушая веселый смех и говор, как что-то по отношению к себе постороннее, он встал и, стараясь, чтобы его не заметили, пошел в свою комнату.
А гитарист уже приводил ход танца к замедлению, уже зазвучали величаво-торжественные аккорды, под которые нельзя было танцевать, а лишь, взявшись за руки, манерно откланяться под общие аплодисменты и веселые возгласы.
***
Юрий Либединский. Фрагмент повести «Любовь». Рисунок: Василий Сварог. Публикуется по журналу «30 дней», № 8 за 1929 год.
Из собрания МИРА коллекция