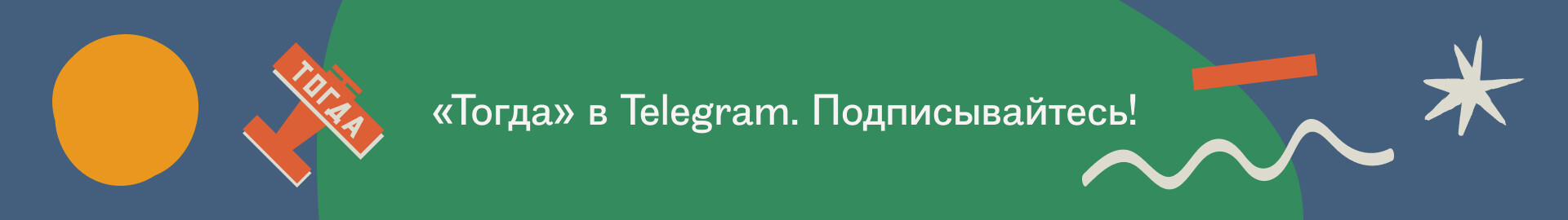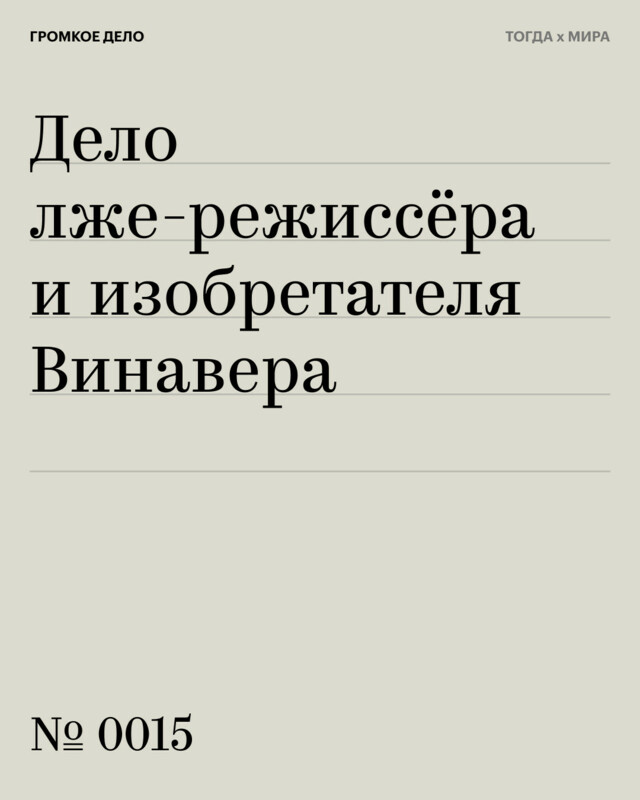Дело о мошенничестве при покупке трактора
Криминальная хроника на страницах периодики 1920-1930-х годов
Смычка — дыбом
«Кривые-Ручьи» мечтают о тракторе
Вечером в Сельсовете долго галдели и спорили. В едкой махорочной синеве задыхался керосиновый огонек, и в дымных полосах вокруг лампы двигались над столом широчайшие мужицкие пятерни: слюнявили и считали, и снова пересчитывали стопки рваных «канареек» и ветхих зелененьких, разглаживали и утюжили волосатыми кулаками редкие червонцы, а серебро — башенкой складывали, часто сбиваясь со счета и сбивая друг друга. А по бревенчатым стенам и потолку от бород окладистых и лохматых голов шмыгали неуклюжие громадные тени.
Наконец, деньги сосчитаны, завернуты в газетку и переданы крестьянину, вида благообразного и строгого, сидевшему тут же в позе торжественного ожидания:
— Ну вот тебе, Николай Мироныч, 300 рублей и — поезжай с богом!
Старик Лыздин, Николай Мироныч, встал, спрятал деньги за пазуху, истово размахнулся рукой ко лбу, пошарив глазами по углам сельсоветской канцелярии, но спохватился, подумал и просто сказал:
— За доверие благодарим, а уж на меня положитесь! Чай, знаете меня — старика.
Тут разом опять зашумела— загудела изба, заёрзали по стенам бородатые тени, и мужики, придвинувшись к Миронычу, заговорили все враз:
— Уж не подкачай... Ты там ленинградским все, значит, обскажи. Что как, мол, значит, деревня наша, Кривые-Ручьи, то-ись, насчет машин и орудий наслышана, то штоб-мол они нам, значит... Первое дело — тракторов нам надобно! Трактор ты нам, кум, беспременно укупи... И насчет молотилок не забудь... Расстарайся, старик, да подешевле чтоб!
— В лучшем виде… Нешто я не понимаю? Чай, дело обчественное, — говорил Мироныч, обращаясь то к одному, то к другому, и кланялся, ударяя себя растопыренной пятерней в грудь.
Потом, также все враз, крестьяне гурьбой двинулись к дверям.
— Ты, кум, утресь в 5 часов лошадку закладай советовал Миронычу предсельсовета Нил Чириков, — в аккурат к 7-ми-часовому на станцию поспеешь. Удостоверение-то тебе секретарь выдал? Я еще давеча подписал...
Медленно расходились по домам.
Черная августовская ночь легла на поля и избы засыпали в избах криворучьевские мужики, и в крестьянские сны вползали все те же заботы и мысли. Предсельсовету снился трактор — махина, с цельный дом! Хромому Матвею, Лыздинскому соседу— молотилки без счета...
А самому Лыздину, Николай-Миронычу — плохо спалось. Он несколько раз лазил под подушку поглядеть, в полной ли исправности пакет и сельсоветское удостоверение, — и, успокоившись, снова принимался размышлять.
О том, что не зря, видно, он 63 года на свете прожил, коли ему деревня такие деньги доверила и ходоком послала по самому наиважнейшему делу.
Часто просыпаясь, он чиркал спичку и глядел на часы — боялся проспать.
Город повернулся лицом к Миронычу
— Здравствуйте.
Мироныч сунул жилистую стариковскую руку через загородку какому-то сотруднику Госсельсклада, выждал-рассеянное:
— По какому делу, товарищ?
Вытер лоб платком и с достоинством ответил:
— По обчественному делу, товарищ дорогой. Из деревни новгородской... Вот, значит, документ мой — а я, значит, Лыздин буду, Николай Мироныч. И велено мне укупить у вас разное сельское имущество, к примеру, там — трактор и прочее.
— Тракторов не имеется. А насчет прочего — очень рады. На какую сумму?
— 300 рублей у меня с собой — с важностью ответил Лыздин.
— 300? Маловато — что вы на 300 купите? Видно, вы цен не знаете. А еще трактор спрашиваете!
— А чето-ж вы тогда его на картинках рисуете? Коли трактор большие тыщи стоит, так где же мужику его укупить?! Неча и рисовать! Между прочим только зря крестьян дразните.
—А вы, товарищ, не выражайтесь, а лучше в детальности ознакомьтесь с ценами. Вот, например, веялка...
Но Мироныч даже рассердился от огорчения и плохо слушает. Служащий склада объяснил и убежал куда-то с бумажкой, а Мироныч все трет платком вспотевшую шею и усиленно думает:
«Што-ж это — так ни с чем домой вертаться? Как быть? Жаль, кума нет, посоветовался-бы... Вот незадача-то какая! Ай-тай-тай!»
— А вы, папаша, плюньте на них! — зашептал ему кто-то на ухо. — У них цены, известно какие казенные. Как правильно заметить изволили, только на плакатах смычку делают. Идем! — Я тебе такой склад покажу, что и ты, и деревня вся век меня благодарить будете.
Смотрит старик: стоит около него парень молоденький, вихрястый такой и рыженький, вида толкового; глаза ясные, — сразу видать — человек городской и обходительный.
— Добро, коли не брешешь! Пойдем, сынок.
И повел вихрястый Николая Мироныча по проспектам и улицам, через мост перешли, который с жеребцами, а со второго моста по канаве свернули... Так привел его парень на какой-то двор: людей ни души, а всё сараи.
А в сараях— действительно, полным-полно всякого сельхоздобра.
Смычка — по-божески
— Вот тебе-молотилки, вот тебе— сеялки, вот тебе трейер...
— Это што-ж за штука? — удивился старик.
— Так что сказать по, совести, я, как человек городской, и сам этого не знаю. А только что очень даже полезная машина — не сумлевайся!
— А где-ж хозяин?
— Хозяина сейчас нету. А я у него вроде как за старшего приказчика и за дворника. Так что мне полные права купли-продажи предоставлен, выбирай.
Стал Мироныч машины указывать, а вихрястый — цену говорить. Ну и действительно — куда казенному складу?!.. Цены на все — впятеро меньше, просто даже сказать — божеские цены. Глаза и зубы у Мироныча разгорелись: то в эту машину пальцем ткнет, то ту облюбует, а вихрястый приказчик —записывает да высчитывает.
Понабрал Мироныч товару на 600 рублей.
— Будет! — говорит, — тут машин не только на нашу деревню, а и на соседнюю хватит. Только, — запнулся старик, — только вот денег то у меня не хватит...
— Так вы-ж, папаша, давеча в госскладе говорили, что у вас 300 рублей припасено. Очень даже вполне достаточно на предмет задатка. Вы их мне уплатите — а я вам форменную квитанцию оторву. Остальные 300 привезете — и машины возьмете.
— Значит, еще 300 рублей собрать надо?
— Да... Хотя — знаешь что? Привезика-ка ты, сколько наскребешь у мужиков, а остальные — потом. Чай, не обманете вы, крестьяне, меня, служащего человека? А мне для крестьянина кредиту не жалко. Потому — смычка!
— Вот оно самое, слово то дорогое! Правильно, паренек, думаешь. Так-то оно и выходит не на словах, а на деле — смычка! Спасибо родной, дай бог тебе... Ужи утешил ты старика! Я то было совсем приуныл: что-ж думаю, неужто без ничего вертаться? Ведь, срам то какой! Еще не поверят в деревне, скажут: — «старый хрыч не сумел купить, обсказать не сумел в городе про крестьянские нужды»... Спасибо, родной! Ей-богу, благодетель всей деревне ты теперь выходишь. Ну, денежеи-то возьми! 300 рублей, как одна копеечка, — сколько народу считало...
— И, спрятав на груди, вместо пакета с деньгами, список купленных машин и квитанцию, которую вихрястый вырвал из какой-то талонной книжки, растроганный старик попрощался с «благодетелем»:
— Ну, так я‚ значит, в скорости опять буду. Соберу только денег — с носа по грошу — и на поезд. Счастливо оставаться!
Мироныч капитала решился
Ровно через две недели старик Лыздин снова сошел с Октябрьского вокзала на площадь.
На душе у него было беспокойно. Мужики хоть и одобрили закупки Мироныча, однако денег собрали мало, надеясь больше на дипломатический талант Мироныча и на сговорчивость городского вихрястого незнакомца, которого Мироныч на радостях описал им, как первейшего доброжелателя деревни «Кривые Ручьи».
Как ни доказывал мужикам Мироныч, что «всякой смычке свой предел бывает», и что без денег ему, как пить дать, не получить ни молотилок, ни сеялок, односельчане уперлись на своем:
— Да ты ему обскажи... Ты ему в душу войди!..
И собрали денег всего около 20 рублей.
Мироныч пошел на крайнюю жертву: он экономил на путевых расходах, где на чугунке ехал, а где и пешком шел. Его путешествие до Ленинграда длилось вместо полсуток без малого три дня — и все же денег удалось сохранить всего 17 рублей.
И теперь, едучи на трамвае, Мироныч ругал себя за расточительность и мучился вопросом: сколько отдать вихрястому? Если отдать отложенные отдельно 15 рублей — то на обратную дорогу хватит. А может лучше — домой пешком и зайцем отправиться, а два рубля мелочи присоединить к 15-ти рублям ?..
Когда, сойдя с трамвая и разыскав, наконец, не без труда дом на канаве, где помещался склад, Мироныч окончательно решил отдать вихрястому все 17 рублей и полез за пазуху приготовить деньги — он не нашел их на месте.
— Карман вырезали, окаянные! — завопил Мироныч и опустился на первую подвернувшуюся ступеньку: — ай-тай-тай! Вот не задача то!
Он был совершенно ошеломлен неожиданной бедой — и немало времени прошло, прежде чем из обрывочных мыслей стала вырисовываться одна — единственная мысль, старчески наивная и детски доверчивая — мысль о вихрястом «благодетеле»: пойти к нему, все рассказать, парень он — теплый, поверит и выдаст машины, не захочет старика перед всей деревней позорить...
Он встал, решительно вошел в ворота и зашагал к сараю. Двери складского сарая были распахнуты, никого не было видно.
Ищи вихрястого в поле...
— Где дворник тутошний?
— Я дворник. А вам чего? — отозвался откуда-то голос.
К Миронычу подошел мрачный коренастый человек с черной бородой.
— Нет, мне другого — вихрястого такого, рыженького.
— Обознались, стало быть, номером. Тут вихрястых никаких не имеется. А дворник — я.
— Да как же нету вихрястого, коль он мне на этом самом месте молотилки продавал? Вот и расписка евоная.
— Какая-ж это расписка? Тут ни подписи, ни формальной печати. Псу под хвост такую расписку!
— Дык как же так? — побелевшими губами залепетал Мироныч, — я ж его, чай, своими глазами видал, вихрястого-то?!..
— Ну, где видал — там и ищи, — обозлился чернобородый и прочь пошел.
Мироныч остался стоять посреди двора с разинутым ртом и трясущейся бородой. В ушах его еще звенели последние слова чернобородого дворника: «где видал — там и ищи».
Казалось, что слова эти имеют какую-то внутреннюю убеждающую силу — и, повинуясь ей, Мироныч медленно двинулся в путь, в глубоком раздумье, сначала вдоль канала, потом направо, потом через мост с жеребцами и дальше — по улицам и проспектам. Он понял что идет в тот самый госсельсклад, где его не сумели уважить и где он встретился с вихрястым.
— Ну, уж не знаю, чем вам и помочь, товарищ! — сказал ему тот-же сотрудник госсклада. — И как это вы попались на такую удочку? Идите, заявляйте в Угрозыск... А впрочем, если хотите — караульте его здесь, вашего вихрястого. Кто знает, может он опять придет сюда?!
12 дней ходока Мироныча
Одиннадцать дней кряду дежурил Мироныч в госсельскладе. Он приходил аккуратно к открытию и уходил последним. Он вглядывался в каждое лицо, искал, справлялся... Но никаких, даже смутных следов вихрястого обманщика он не находил. Пропал вихрястый — как вихрь в поле...
Дни шли. Мироныч проел свои два рубля, сменял в ночлежке новую рубаху на рвань с придачей 40 копеек, прожил, и их — и вот наступил — 12-й — когда силы и надежды оставили его.
Был праздник, и склад был закрыт — даже пойти ему было некуда и негде было искать своего обидчика. В голове мутилось от голода и душевной усталости — впервые он почувствовал себя дряхлым обиженным старичком, одиноким, заблудившимся в этом громадном чужом городе, где его так бессовестно обманули и откуда — не известно, выберется ли он когда-нибудь в Кривые Ручьи?
Еле волоча лапти по тротуарам, пошел Мироныч на кладбище, — что ему оставалось делать? День был воскресный, к покойникам приходили близкие — Мироныч бродил между могилами и, прижимая трясущуюся ладонь к седой бороде, униженно кланялся и просил у живых милостыню «для — ради дорогого покойничка»...
У ворот какой-то старый безногий нищий ударил его костылем и зашипел:
— Чего притащилсл, моща деревенская? Стреляешь, подлюга, у нас хлеб отбиваешь?
Судьба на панели
В ту ночь Мироныч ночевал на каком-то бульваре и проснулся на рассвете от дворницкого пинка.
Он покорно встал и поплелся. Он знал, что сегодня он уже не пойдет в госсельсклад, сегодня опять нужно будет просить милостыню...
Почему-бы так странником-христорадцем не уйти из этого города в обратный путь, в Кривые Ручьи?.. Но что-то удерживало еще Мироныча — или, может быть, пугал его путь? Или просто не хотелось ничего, крохе хлеба кроме черствой черной корки?
Вдруг что-то блеснуло перед ним на панели. Он нагнулся — двугривенный!..
«Вот бог послал на хлебушко» — подумал старчок и, схватив монету, заспешил прочь.
Потом, оглянувшись, он шмыгнул в первый встречный трактир. Сел и спросил чаю и ситного. Налил на блюдце, поднес к бороде и...
Старое сердце Мироныча радостно дрогнуло и оборвалось: за соседним столом сидело тот, кого он искал 12 дней.
Исхудалый, обросший, страшный, поднялся Мироныч и, вытянув вперед трясущуюся руку, закричал на весь трактир:
— Вяжите его, люди добрые! Целое обчество обворовал он, подлец, вихрястый. Меня, старика...
И старик разрыдался, уронив на стол седую бороду.
Вихрястый парень вильнул было к выходу, но два дюжих красноармейца уже держали его за шиворот:
— Чего с ним делать-то? — приказывай, папаша!
Мишка-Шпандырь — отщепенец деревенский
На первом же допросе старик, оживший духом после поимки вихрястого, дал волю негодованию, душившему его 12 дней. Рассерженным петухом наскакивал, он на своего обидчика:
— Ах, ты бандит разнесчастный! Мало тебе, что обобрал мужика — так он еще, товарищи дорогие, смычкой своей подлец похвалялся: «Тут тебе — говорит — и сеялки, и молотилки...» Да что-ж я тебе за это сделать должон?
— Постойте, гражданин... Ваше имя, арестованный?
Вихрястый совсем оробел:
— Лобанов Иван — по паспорту-то я Лобанов Михаил, а только это брата моего паспорт — из деревни он мне прислал...
— Стой, стой! — вдруг завопил Мироныч. — Как звать — Лобанов, говоришь? А какой деревни? Кривые-Ручьи!?!.. Да ты не Петра-ли Михеича сынок будешь? Ай-тай-тай! Вот незадача-то какая! Значит, ты тот самый Ванька — пропащий и есть? Мальченкой-то я тебя знавал, а такого подлеца где уж признать? Ах и подлец! Не только меня обидел, а еще и старика, отца своего — первого на деревне мужика — воровством опозорил. Да как же я теперь деревне-то расскажу про грабеж твой? Урод ты беспутный! Мать-то твоя старуха все глаза по тебе, щенку, выплакала: «где-то Ванюшенька мой непутевой? 6 годков, как в город ушел и весточки не подает. Верно, сложил где свою буйну голову!».. А ты, рыжий бес, вон чем в городе занимаешься, на легких хлебах работаешь. Да лучше бы сдох, чем этакий срам на семью класть. И в кого ты, урод, уродился?.. Тебе говорю, Ванька, неча рыло воротить! Отвечай, в кого?..
— Вы, Лобанов, в приводах бывали? Нет? А вот «Мишка-Шпандырь» это — не вы?
— Шпандырь? — снова вмешался Мироныч, — это што-ж за кличка такая окаянная? Тьфу! Шпандырь! Даром, что не знаю я слова такого (63 года живу—не слыхивал), а только уж очень оно к тебе подходячее... Балда ты, Ванька — вот ты кто!.. Товарищи дорогие, уж простите вы его, дурака, отпустите мерзавца — я его к отцу предоставлю. Все одно — пропали мои денежки... Да кабы знал он, что собственную деревню объегоривает — разве он себе позволил бы? Отвечай, Ванька— позволил бы?
Вихрястый субъект с уголовным прошлым уныло мямлит что-то покаянное.
И, забыв и тяжесть преступления, и собственное свое негодование, просит — заступается за вихрястого больной, обманутый, добродушный Мироныч и рассказывает что-то, нескладно и путанно, про Кривые Ручьи и про молотилки, про уважаемого мужика Петра
Михеича и про его пропащего сына, и про то еще, как трудно старику просить милостыню на могилках...
Разумеется, ни покаянный плач, ни заступничество отходчивого сердцем старика Лыздина, не спасли Мишку-Шпандыря от заслуженной кары. В марте его судили, на суд. снова приезжал из деревни Мироныч — и снова жалел, и снова жаловался.
А когда Ивана Лобанова, приговоренного к 2-м годам лишения свободы, уводили конвойные со штыками, старик протискался к осужденному и сказал с суровой слезой в голосе:
— Слышь, ты! — я уже и запутался, Ванька ты, или Мишка! — слышь, говорю: ты меня, старика, прости, а только — сам ты, парень, виноват. И должон ты таперя в тюрьму иттить с кроткостью и смирением... Ну, шагай с богом — и в тюрьме люди живут. Отсидишь — человеком станешь. Може, к крестьянству вернешься... Отцу-то передавать что, аль не надо?
***
..И не раз темными вечерами в деревне Кривые-Ручьи, когда засидятся, бывает, в избе сельсоветской крестьяне за делами, приходила то одному, то другому на ум печальная история о том, как Кривые-Ручьи к городу на смычку ходока засылали и как «смычка эта кривым боком вышла».
Уже притупилась первая яростная злоба и печаль о загубленных тех сотнях. И когда выходил из избы старый Лобанов — нет, нет-да и молвит кто-нибудь со стариковской; по своему мудрой, жалостью к Ваньке Лобанову, деревенскому отщепенцу и обидчику:
— А Ванька-то душа шелапутная — сидит, поди.. Сколько ему еще в тюрьме остается-то? Эх-эх, шпандырь — шпандырь и есть…
Только Мироныч, как вернулся из города, словно постарел. Молчалив стал, строже и благообразнее, чем был: не мог он простить себе, что объегорил его мальчишка какой-то, и что по его деревенской доверчивости обчество такого капитала лишилось.
Учуяли крестьяне драму старика Мироныча — и при нем никnо никогда не поминал про тракторы, молотилки и прочие хорошие вещи.
***
Вл. Холодковский. Публикуется по журналу «Суд идет», № 9 за 1926 год.
Из собрания МИРА коллекция