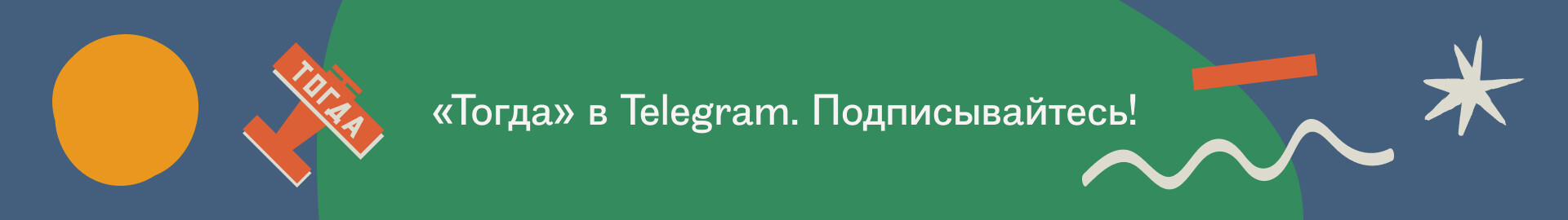«Студенческий воздух». В. Цвелев
К началу первого семестра Воробьёвы горы безукоризненны. Их коричневый амфитеатр оттеняет угольные туловища вязов и землистую мускулатуру дубов. В клетчатой светотени извиваются кораблики опадающей листвы, желтый ковер под ногами пахнет поджаренным бисквитом. На редкость тяжелые желуди прыгают с ветки на ветку срываются стаями, словно воробьи, и с хрустом лопаются под ногами. Можно забраться еще выше, посмотреть фактуру неба, редкие полосы рельс, изгородей, антенн и телеграфных проводов. Совсем близко наше общежитие. Освещенные окна отражаются в ртутных волнах реки Москвы.
Ремонт здания еще не закончен. Привычные сладкий запах цинковых белил кажется уже обязательным. Пестрые кучи извести окружают фасад, подобно клумбам. Все же две трети здания годны под жилье.
В комнате четырех второкурсников (два будущих доктора, один горный инженер и я) обстановка обычная студенческая. Четыре худощавых койки, из комода торчит ручка эмалированной кружки, в углу разорванная футбольная камера. На столе, щетки для зубов и для ботинок. Тектология Богданова и теология Неймайра, Генрих Гейне и Оливия Уэдсли. Таковы же все сто семнадцать комнат нашего общежития.
Я могу рассказать биографии их обитателей, начиная с эпохи империалистической войны через войну гражданскую, через рабфак имени Бухарина или, наконец, через жалкую трудовую школу второй ступени образца 1922—1926 года.
Здесь есть поэты и астрономы, криминологи и врачи. Здесь есть шестнадцатилетние дочки уездных (простите, районных) землеустроителей, краснеющие на уроках физкультуры, — есть и бородатые партизаны, ночами со сна приказывающие идти в наступление,
Все они учатся в исторических аудиториях университета, не подозревая об их историчности и нимало этим не смущаясь.
Они учатся. Это слишком немного. Они руководят литературным кружком на Трехгорном пивоваренном заводе, дежурят санитарами скорой помощи, топят печи в ночлежном доме на Миусах. Они копируют для стеклографа стандарты тюленьих шкурок ВСНХ, составляют отчеты о беговых состязаниях для «Вечерней Москвы», сшивают рогожи на товарных станциях.
Оренбург, Ростов, Владикавказ, Саратов и Новосибирск безусловно имеют лучших своих представителей в нашем общежитии.
***
Нас четверо, мы живем под одной лампой в комнате № 101. Изредка нам удается поймать друг друга дома ночью, когда один еще не заснул, а другой уже явился и пьет из смятого чайника пресный кипяток.
Николай глотает, жует и надоедает мне своими новостями, всегда выпуклыми, но бессвязными.
Характер его таков: если он начнет говорить о Первом мая, коснется всех праздников и, охватив международное положение, закончит бездарным анекдотом или задачей на отыскание какого-нибудь сверхъестественного дифференциала.
Его рассказы невозможно записать человеческими словами, их надо расшифровывать — эти стенограммы голых эмоций. Зато он безупречно отбирает явления для себя, ставит под свой угол зрения и самостоятельно освещает.
— Представьте себе, — приподнимаясь над одеялом, говорит Николай, — представьте себе матросский кабачок. Представили? Ну, и вот в этот кабачок зашла компания матросов. А дело происходит, прошу обратить внимание, в 1918 году. Вошли, значит, матросы. Пьяные... Требуют, конечно, портер. Хозяин не дает. А у них на поясе гранаты. Дак они, черти, хотели попугать хозяина. Один снимает гранату, вытаскивает кольцо и оглядывается, ищет окошка. Они обыкновенно такие штуки проделывали: помахают, помахают, потом раз гранату в окошко — и она на улице взрывается... Оглядывается парень и видит, что окошка не имеется, пивная в подвальчике, а помещение большое и кругом столики. До двери не добежишь. А русская граната образца 1915 года, как вам известно, рвется через 4 секунды после снятия чеки. Вот теперь подумайте, что он сделал и как он спас своих товарищей...
...В темноте слышим стук встряхиваемого коробка спичек, похожий на короткий смешок. Пауза.
— Ну, и как же он их спас? — не выдерживает кто-то.
— Вот подумайте, — отвечает Николай и, помолчав, продолжает: — Он отстегивает от пояса ржавую бутылку гранаты. Он срывает кольцо и вспоминает, что окно засыпано землей. Отрезвевший, он поигрывает гранатой перед белыми зрачками хозяина, потом берет гранату под мышку и, прижав ее к сердцу, легко падает на пол. Раздается воющий звук, матроса подбрасывает на уровень столика, и он снова падает.
Хозяин машинально подымает упавший столик. Как будто все целы. Один лежит, виновато накрыв голову воротником, на исковерканном полу. Его бережно переворачивают на спину. Разорванное горло висит алыми лохмотьями кожи и хряща. Вот как он сделал. Это я понимаю, дисциплинка! — Так заканчивает свой рассказ Николай и кладет большую голову поверх плоской оранжевой подушки. Несколько минут выразительной тишины.
Потом снова звук, похожий на лязг захлопывающегося капкана. Это второй друг, будущий доктор, переворачивается лицом ко мне.
— Цвелев, ты спишь? — говорит он. Я хочу показать тебе свой дневник.
— Ну, что же, — равнодушно отвечаю я, — покажи.
Во время чтения разочарование борется с восхищением. Третий год я живу в общежитии и вижу, сталкиваюсь с тысячами студентов.
Однако здесь под боком спит человек, и я даже не подозреваю о всей оригинальности и глубине его мышления.
Я ожидал найти в дневнике героические примеры вузовских субботников, описания и отчеты о работе комсомольцев медфака, жестокие протоколы классовой борьбы, диагностику мимикрии и симбиоза.. Ничего этого нет.
Вот выдержки.
1 сентября 1929 года. Начинается новый учебный год.
...Когда я на рабфаке, на занятиях по физике, познакомился с торичеллиевой пустотой, то постарался обдумать это явление, ясно себе представить возможность пустоты. Тогда я еще не был знаком ни с теорией относительности (хотя еще тогда взялся ее штурмовать.
Это было на третьем курсе, все же сущность плохо понимал), ни с диалектикой, ни вообще с философией.
И вот я долго мучился, испытывал неприятное чувство неопределенности и беспокойную остроту интереса, — понять, представить.
Я тогда не знал, что абсолютной пустоты нет, а есть пустота относительная, практическая, а не теоретическая.
Если из трубки выкачать воздух, то там свободно может находиться электромагнитное поле, а если не электричество, так эфир (хотя эфир взят под сомнение и оспаривается).
Тогда же я думал, что потому я не могу уяснить и представить пустоту, что это невозможно психически, так как процесс мышления — процесс физический, а я сам материален.
Пример: поскольку наше собственное тело имеет три измерения, то мы и воспринимаем окружающий нас мир в трех измерениях, а иначе не можем.
(А мы, значит, наверное, потому сложились трехмерными, что находимся в системе трехмерного тяготения.)
18 сентября. В связи все с новыми и новыми грандиозными достижениями науки и техники, в связи с быстрым развитием творческого гения появилась инерция мыслить в таком направлении, что человеческий ум со временем может все разрешить, всего достигнуть, все познать.
Это только наивная окрыленность при опьяненном состоянии от удач, а не строгое критическое рассмотрение своих реальных возможностей. Хотя и нет предела познанию, но ведь все же всего познать человечество не сможет...
Главным образом я хочу сказать то, что как можно, исходя из строго научных положений или теоретических предположений), как можно заранее решить судьбу предполагаемого опыта, судьбу разрешаемой проблемы. Если решение отрицательное, то спокойно, с уверенностью можно не тратить сих на производство опыта, не изнуряться в поисках и изобретательстве.
И наоборот: исходя из строго, научно, теоретически установленного — с уверенностью искать, открывать, изобретать, добиваться.
Примером для последнего может служить Менделеевская система элементов и вполне законная уверенность автора этой системы.
Пример для первой мысли — неудачные попытки изобретателей-самоучек устроить перпетуум-мобиле.
Но ученые не пытаются этого добиться, они заранее знают, что перпетуум-мобиле не удастся. Они исходят из закона сохранения энергии: энергия не уничтожается и не рождается вновь.
Так что у нас движение будет беспрерывно только до тех пор, пока мы затрачиваем энергию. Иначе — остановка. А изобрести самольющуюся энергию мы не можем.
***
Если кто-нибудь вздумает вести дневник, пусть учтет опыт прочитанного. Мемуары Блока или Брюсова — невероятная скучища. Например: «Пили чай у Льва Толстого. 2 часа разговаривали. Получил письмо от Верочки»...
То ли дело здесь? Обнаженные мысли со всеми наивностями, еретическими ошибками, темпераментом, отраженным в любой закорючке.
Иван (автор дневника) — сын сапожника из *ронницкого уезда. Четыре года он жил на тринадцать рублей ежемесячной рабфаковской стипендии. Сейчас на третьем курсе медфака.
Много читает, еще больше работает. Он увлекается всеобщей организационной наукой, учением о подсознательном, теорией относительности. Он разводил личинки особого вида моли, в теле которой, говорят, находится яд, убивающий коховские палочки и безвредный для человека.
В данную минуту он спит на своей запыленной койке, накинув на себя сверху кожаный пиджак. Я рад, что он живет в одной комнате со мной, я от него научился большему, чем от десяти университетских литературоведов, в те вечера, когда мы катались на лодке мимо Воробьевых гор и начинали разговоры о звезде Сириус или о знаменитой «системе рычагов» в связи с ошибками Богданова и Бухарина. Кончались разговоры все беседой о наших возлюбленных и о их необычайных качествах.
Иван с его голубыми яркими глазами выглядит крестьянским парнем лет девятнадцати.
Он скорее застенчив, чем нагл, всегда хитро улыбается. Ему двадцать пять лет. Он сутул и носит мягкую рубашку «на выпуск».
Дальше спит Николай, тот самый, что рассказывал о нарвских матросах. Еще он рассказывал, как его отец-машинист в пылу ссоры с каким-то начальством спрыгнул на полном ходу с паровоза. Николай работах рассыльным и одновременно учился на вечерних курсах. Его математическая голова получила должную оценку, и он явился в Московский электротехникум с командировкой НКПС.
Неустойчивый, как все наше поколение, он беспричинно перешел в I МГУ на факультет советского права. Два года конспектировал Гегеля. Купил все кодексы всех изданий: Уголовный 28 года, Уголовный 29, Гражданский, КЗОТ (кодекс законов о труде). Сейчас кодексы лежат на окне, застят свет.
Коля перешел на геофизический факультет и уже больше никуда переходить не собирается. Конец.
Мало того, он три недели изводил меня, доказывая, что литература, искусство, беллетристика и поэзия — ничто в сравнении с химией и вариационным исчислением.
Перехожу к характеристике Алексея Осиповича. Он военный фельдшер. Империалистическая война украсила его волосы серебряными лезвиями седины. У него жена и двое ребят в Уфе. Мы все восхищены его молчаливой работоспособностью. Он знает английский язык и иногда читает О. Генри, на ходу переводя американский юмор на социалистические рельсы. Он вселился к нам недавно, месяца два назад. Получив по карточке сахар и мыло, он немедленно посылает их в Уфу.
Таковы обитатели нашей тридцатиметровой вселенной.
***
В. Цвелев. Рисунки: Михаил Храпковский. Публикуется по журналу «30 дней», № 8 за 1930 год.
Из собрания МИРА коллекция