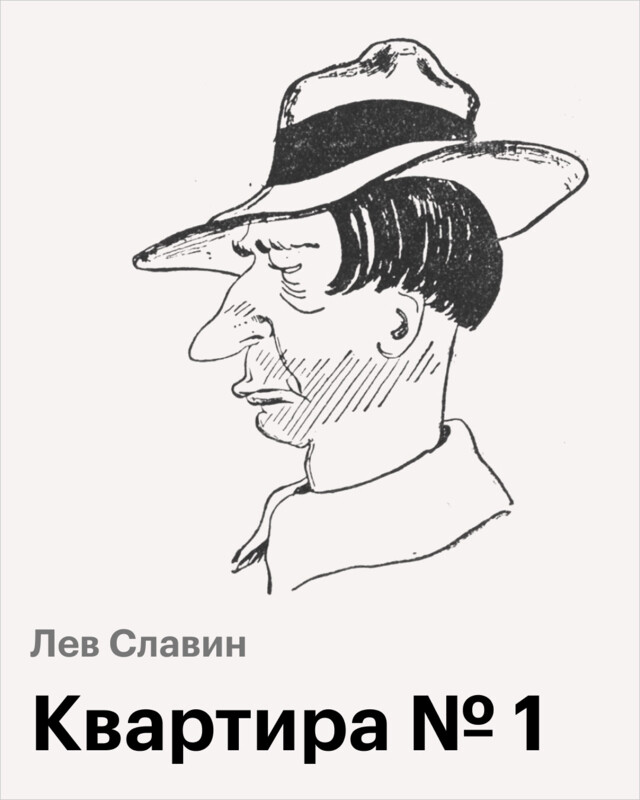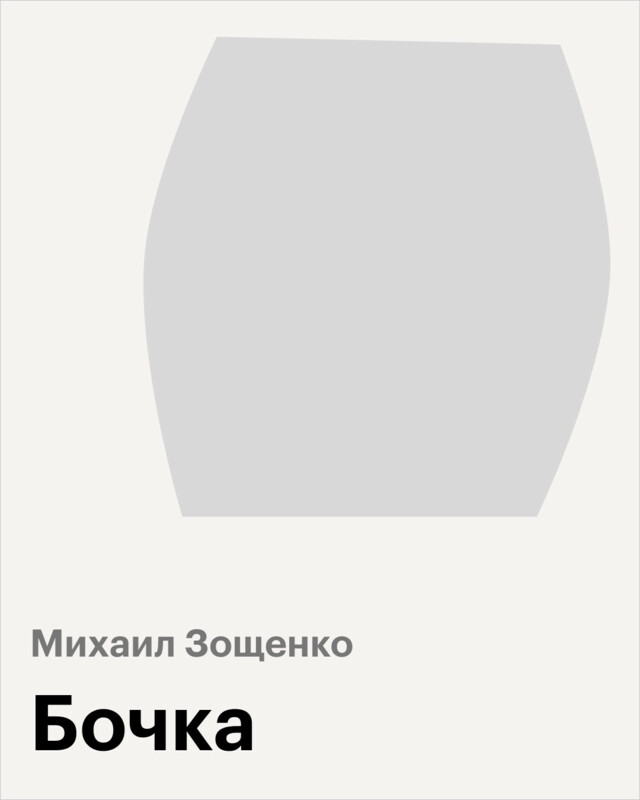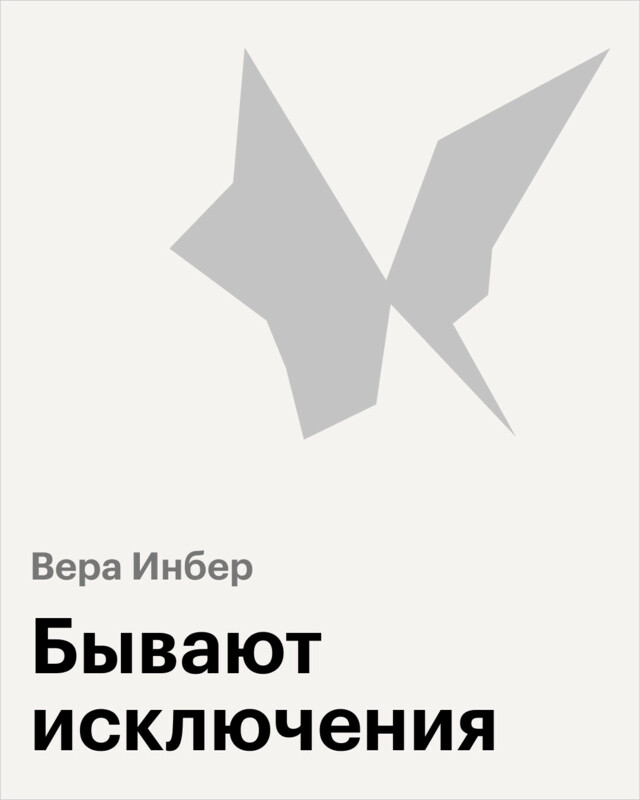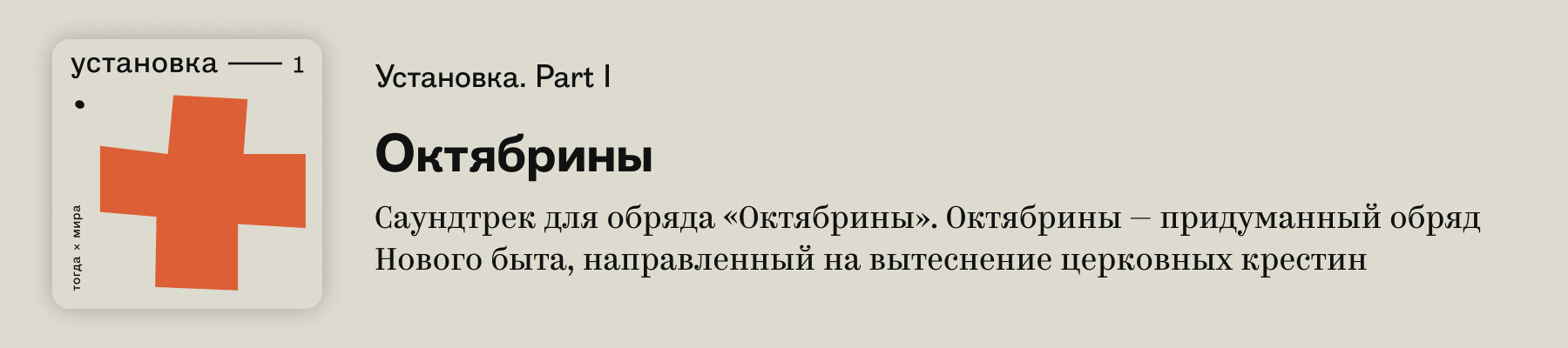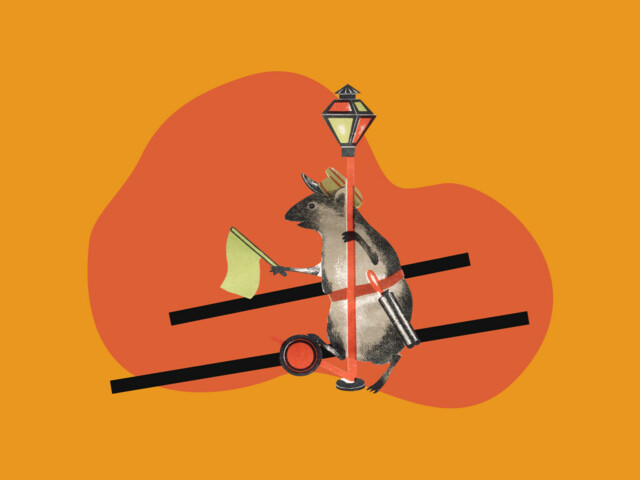«Застенчивость». Николай Москвин
У него была страшная фамилия: Ядич. Двери его не любили, — он не открывал их полно, на весь размах, а только приоткрывал чуть-чуть и вскальзывал в комнату. Он не входил, а проникал. Будто по контрамарке.
Дверные ручки задевали его запавшую грудь — он был мал ростом.
— Я вас должен поставить в известность, товарищ Казарнова, что начало рабочего дня у нас в десять часов.
Очки с толстыми стеклами Ядич навел, как телескопы, на звездное платье Клары — белый горошек по темно-синему полю.
— Я знаю.
— Однако вы сегодня пришли без четверти одиннадцать!
— Я пришла в десять.
— Вы пришли без четверти одиннадцать!
Кларе было семнадцать лет; у ней были загорелые, привыкшие к веслам, грубые руки и высокая сильная грудь.
Она смотрела сверху на густые вьющиеся волосы Ядича и видела на затылке небольшую плешь.
— Я пришла в десять, — уже мягко повторила она, жалея заместителя директора за его плешь, за малый рост, за тщедушность. — Я пришла в десять, но тотчас поехала в типографию отвезти последние листы номера.
Телескопы отвернулись от звездного платья и смотрели в стену — в унылую стену, серо-голубую, как пересиненное белье.
— Мне это неизвестно! Я попрошу вас каждый раз доводить до моего сведения о вашем отсутствии в издательстве.
Ядич резко повернулся — сверкнули стекла — и пошел к двери.
«Ах, вот что! А она его еще жалела!»
— Я этого делать не буду! Наша редакция самостоятельная, и я не обязана... я не привыкла, чтобы за каждым моим шагом следили... Я спрошу у товарища Занзибарова, как он на это посмотрит... Я не хочу, чтобы.....
Маленький Ядич скучая стоял у двери.
— И тем не менее, я пап-прошу вас докладывать мне о ваших отлучках из издательства! Из из-да-тель-ства! Вы работаете в системе издательства!
Он выскользнул из комнаты, чуть приоткрыв дверь.
Дни шли, но Клара не докладывала.
Ядич заглядывал в редакцию (сотрудники переставали говорить, улыбаться) и, не найдя Казарновой, он произносил неразборчивое: «аггым», которое можно было понять как: «Ага, попалась!». Или:
«Теперь все ясно!» Затем он пристально, через очки, оглядывал сотрудников, будто ища соучастников.
Когда же, позже, он встречал в коридоре запыхавшуюся Клару, нагруженную теплыми листами оттисков, — он смотрел на нее вкось, жестоко. Впрочем, Кларе это могло только казаться: «вкось, жестоко», ибо коридор был темноват и застекленный взгляд Ядича мог лишь угадываться. Ее забавляла ненависть этого маленького человечка. Она высокая, с сильными загорелыми руками, проходила спокойная, независимая, словно победительница со стадиона. Лохматый ворох бумаг, который она держала перед собой, у груди, казался букетом цветов.
Однако эти встречи были неприятны — они напоминали ей детство: у одних знакомых в темной прихожей жил еж; играя в «палочку-выручалочку», надо было пробегать через прихожую. Еж не кусал — ну, а вдруг?! Наступишь?!
В июле месяце Казарнову послали с выездной редакцией в район.
Она следила за черно-белыми сороками, танцующими на телеграфных проводах; слышала из вагонной типографии ровные, домовитые вздохи «американки»; перед ней лежали рабкоровские письма, которые она легко и ходко прочитывала и правила. Все было хорошо. И когда, как-то вечером, по коридору мимо ее купе прошел старый наборщик в серебряных очках и, добро взглянув на Клару, сказал на ходу:
«Кислоту достали, теперь и клише у нас будут!» — она поняла, что ей хорошо и легко потому, что она вот уже неделю не видит и не думает о Ядиче, Этот докучливый, упрямый человечек, может быть, теперь там допекает своим надзором кого-нибудь еще, но легли версты и версты, и пусть себе там что хочет!.. Сорока садится на провод, длинный зубчатый хвост смешно переваливает ее — она вытягивает голову: ловит равновесие; домовитое посапывание «американки»; стихи колхозного бригадира под медленным и дружелюбным синим карандашом...
Вскоре Клару свалил грипп. Она лежала под чужими одеялами... Купе ее отделилось от вагона и легко покатилось по рельсам... Она настойчиво вспоминала, какие станции она проедет: Лухви-цы... Бежицы... Ятицы... Нет, она не хочет в Ятицы — пусть ее купе пошлют обратно в выездную редакцию!..
Когда первая температура прошла, Клара потребовала, чтобы ей вернули работу. Полулежа, зажав губами синий карандаш, она принялась вскрывать и обрабатывать корреспонденции.
Первые три письма она прочла с трудом — не втянулась еще, не сосредоточилась. Но ко четвертой корреспонденции, в которой оказался очерк, все пошло привычно, ходко — будто нет и не было гриппа.
«Когда рано утром он открывал окно, то рядом всегда видел мокрый от росы куст, весь усеянный воробьями, которые щебетали».
«Не плохо», — подумала Клара и, поморщив лоб, исправила синим карандашом «весь усеянный» на «обсыпанный». «Которые щебетали» — вычеркнула совсем.
«...В эти минуты он чувствовал, что одинок и что дни шли мимо него».
«Ну вот, вдруг — и «одинок!» — пожалела она.
«...Потом нарастал гул приближающихся тракторов.»
«Ага, это уже лучше!»
«приближающихся тракторов — все ближе и ближе. Они шли к Картофельному совхозу, дымя и поднимая пыль».
«Почему же «дымя»? Разве это паровоз? Она переправила «дымя» на «чадя».
«...Так начинался его выходной день на даче в Перхушине».
«Ах, так это дачник!»
«...Он шел на реку, садился на уединенный бугорок и следил за купающимися, за бегом лодок, за полетом далеких птиц. Старик-паромщик отвязывал свой черный бревенчатый поплавок и перевозил телеги, автомобили на тот берег».
«Ничего, ничего», — Клара легла на спину, так как затекла левая рука. — Только я, для настроения, написала бы, что и старик-паромщик тоже был одинок.
«...Он бойко тянул трос, пересмеиваясь с бабами и шоферами. Все любили этого шустрого доброго старика».
«Ах, так. Ну, пусть! Только вот...»
Она вписала карандашом перед словом трос «мокрый».
«...Потом опять бежали лодки, зарывая весла в воду».
«Ну, уж если «зарывали», то «бежать» не могли. Клара взяла карандаш, как ручку весла, и сделала привычный, легкий, но сильный взмах. Ей захотелось к воде. Она переправила «бежали» на «ползли».
«... доносился звонкий девичий смех».
«Ох, уж этот «звонкий смех»! Она вычеркнула «звонкий». Однако к чему все это? Клара быстро пробежала конец очерка: «он с тоской следил...» гм... мм... «не знал, как поступить...» мм-мы... «солнце уже начинало»... мм-мы... «дома его никто не ждал»... мм-мы... «воробьи уже покинули куст, и он»... Опять куст!.. мм-мы... «Невыносимо оставаться на даче»... мы-мм... «садился в поезд»... мм-мы... «Москва встречала»... так... гм-мм... так... ни адреса, ни подписи...
Клара привстала на локте и наверху рукописи написала вкось: «Не пойдет! Нет темы». И когда написала это, то заметила, что сквозь бумагу темнеют буквы на обороте листа. Она перевернула лист.
«...Он брал у дремлющего сторожа, — читала Клара, — ключ, будто для срочной работы, открывал второй этаж и входил в издательство. Нагретая тишина охватывала его. В гулких пустых комнатах держался еще табачный дым предвыходного дня. Он не шел к себе в кабинет, нет — он открывал третью слева комнату, подходил к столу, над которым висела гравюра, изображающая скачущую лошадь, несущееся облако, и дерево, пригнутое ветром».
«Господи, о чем же это! Ведь это Фаворского гравюра!»
«... пригнутое ветром. Он садился за этот стол. Да, вот ее нет теперь и завтра не будет. Но комната еще хранит ее следы. Вот на промокашке стола нарисована двух-весельная гичка, на календаре записи ее рукой...»
«Откуда же он почерк знает!»
«...ее рукой. Это, может быть, было глупо: сидеть в пустой комнате и вспоминать! Да и вспоминать о человеке, который никогда не поймет тебя! Но ему трудно было уйти отсюда. Завтра комната наполнится людьми, и ему не прийти так, как сейчас. Однако близился вечер. Одинокий вечер его выходного дня... Он возвращался по темному коридору — маленький, затерявшийся в гулком здании. Но он нес радость воспоминаний. Никто не знал этого. Сторож у выхода видел спускающегося по лестнице насупившегося человечка в строгих очках. Таким его всегда и все видели. Это было обыденно...»
Клара откинулась на подушку: однако грипп давал себя чувствовать! «Как же это все случилось?»
Она поднялась, взяла резинку и стерла с письма свой синий карандаш — куст был опять «усеян», тракторы «дымили», лодки «бежали» ...
Покосившись на дверь купе, — не идет ли кто, — она спрятала письмо в свой портфель. Легла, положила руки поверх одеяла и улыбнулась.
***
Николай Москвин. Публикуется по журналу «30 дней», № 4 за 1935 год.
Из собрания МИРА коллекция