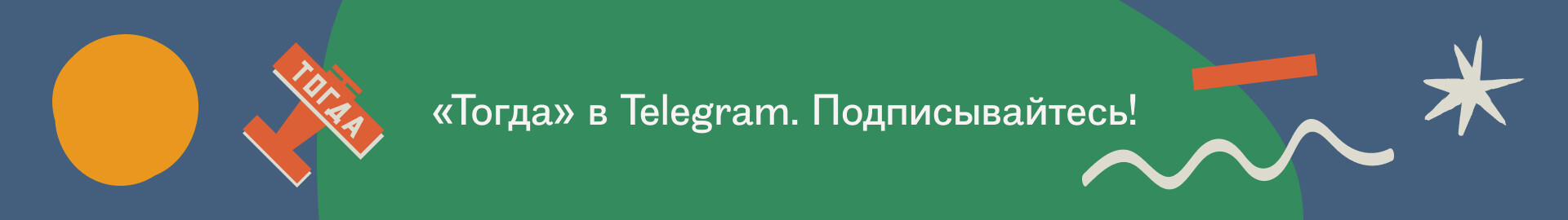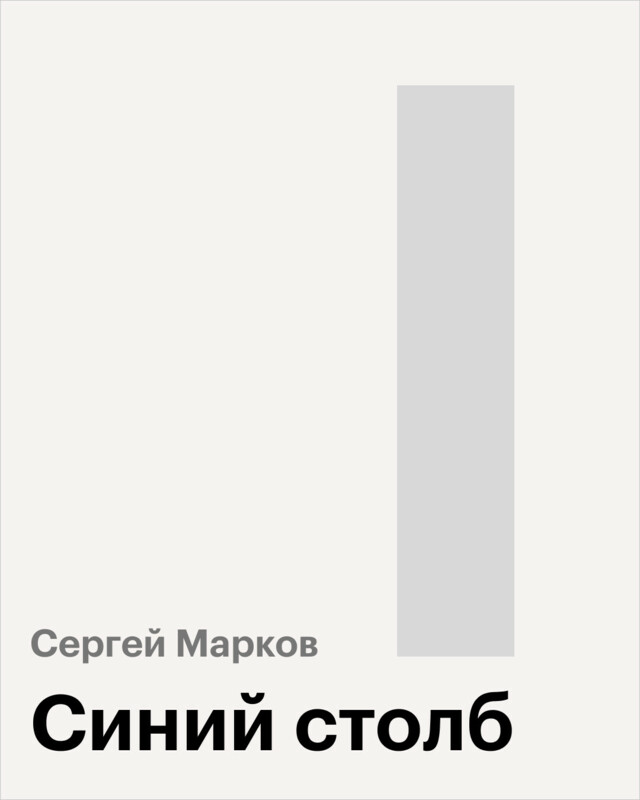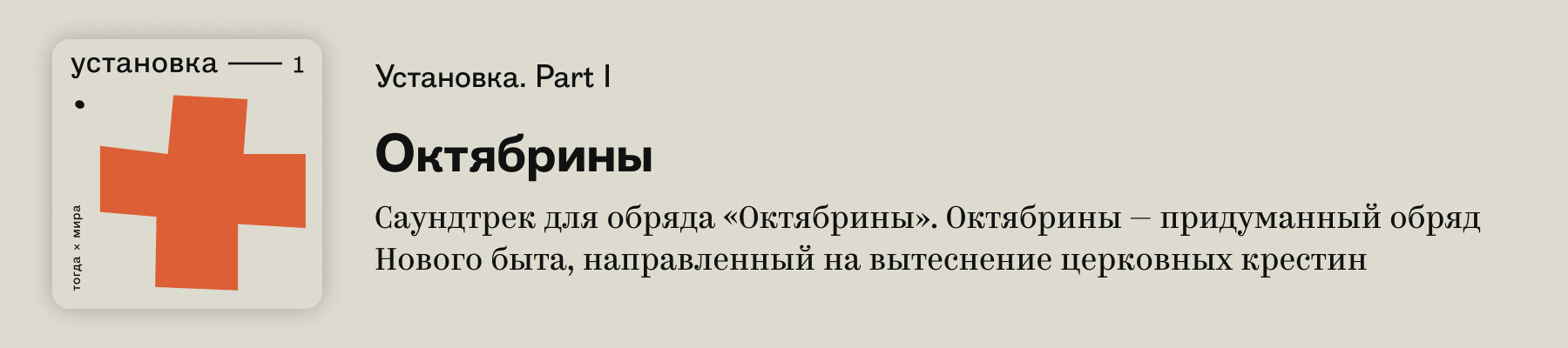«Парижские встречи». Лев Никулин
В Париже я научилcя спать под музыкальную перекличку автомобильных рожков, под разноголосый, но стройный уличный оркестр.
Я привык к нему, как привыкают к ритмичному плеску волн под окном приморской дачи, и вдруг, однажды, просыпаешься от непривычной тишины, от штиля, который бывает поздней осенью, перед полосой штормов.
Так однажды я просыпаюсь в Париже от удивительной тишины. Затем я слышу дробь каблуков и вижу из окна шестнадцать гладко выбритых чистеньких полицейских в белоснежных накрахмаленных воротничках. Сверкая лакированными поясами, они проходят по нашей тихой улице.
Первое мая.
Все становится прозрачным и ясным на парижских улицах. Двадцать тысяч желтых, серых и красных кареток такси остались сегодня в гаражах, и армия шоферов, заложив руки в карманы, гуляет по тротуарам Курбевуа. И вы различаете одинокие машины, как одиноких прохожих на пустынной улице. Вот потрепанный пэжо (доктор Баз объезжает больных), вот респектабельный, солидный ситроэн (господин Леказ объезжает четыре чулочных магазина и фабрику). Спортивный тальбо архитектора Дэгу, специалиста по отделке магазинных фасадов, и похожий на броневик вуазен, с серебряным султаном на радиаторе, — машина Мориса Лебенталь — владельца пассажа Лидо.
Между тем, справа от вас маршируют полицейские в стальных касках, слева — национальные гвардейцы в белых поясах, при тесаках и револьверах, и позади движутся грозные и усатые всадники в римских шалемах. Вы поднимаете глаза к небу и в небе видите летающего полицейского. Он кружит над красным поясом парижских предместий и с высоты пятисот метров видит батальоны синих мундиров, множество вооруженных людей, спрятанных во дворах префектуры. И видит множество рабочих, устремившихся в зеленую сень парков, чтобы еще раз напомнить друг другу, кто хозяин земли.
Весенний ветер, ветер Первого мая, играет красным платком в окне казармы, — это робкий привет запертых на замок солдат. У парка Гарш синий четырехугольник полицейских разделяет надвое черно-серые массы людей, и в напряженной и короткой тишине пронзительно звенит разбитое стекло.
И в тот самый час, когда в Париже капитан республиканской гвардии, с военным крестом на груди обнажает саблю и, покосившись на угрюмых и усатых солдат, пускает в галоп коня — в Берлине полицейский офицер с железным крестом на груди отстегивает ремешок револьверной кобуры.
— Strasse frei! Es wird geschossen!
— Circulez, circulez, circulez!
***
Тем временем во дворе парижской префектуры накрывают завтрак на восемь тысяч приборов. Ротационная машина сбрасывает первые листы макулатуры, это «Энтрансижан» торопится сообщить парижанам, что — Первое мая прошло благополучно в Европе:
«Господин префект первым осушил бокал за здоровье gardiens de la paix, хранителей мира. Завтрак для восьми тысяч полицейских был накрыт под открытым небом. В Берлине есть убитые. В Гамбурге тоже. В Париже — тихо».
К вечеру только осколки стекла, обломки чугунной решетки напоминают о том, что Париж — город баррикад сорок восьмого года и город баррикад Коммуны. Господин Вессад — владелец отеля «Тироль», господин Леказ — владелец чулочной фабрики и четырех магазинов, господин Лебенталь — владелец пассажа Лидо, собственноручно перевернут листок календаря, и ровно в полночь на календарях всей Европы будет второе мая.
***
Тем временем из гостиницы «Истриа» на Монпарнасе выходит человек тридцати шести лет. Он высок ростом, широкоплеч и сложен пропорционально и складно.
На нем скромная, добротная одежда —так может одеваться пароходный механик и рабочий в праздничный день. Он волочит за собой тяжелую трость, а иногда ставит её вертикально перед собой. Нельзя угадать национальность человека: у него глаза южанина, широкий подбородок англо-саксонца и цвет кожи американца, у которого есть примесь индейской крови. У него большой рот, или он кажется большим оттого, что у этого человека привычка растягивать губы, когда он говорит и хочет, чтобы его правильно поняли.
Господин де Монзи, сенатор, увидев его впервые, сказал:
— Надо показать эту пасть Парижу...
Он входит в бар на бульваре Монпарнас, садится, не приподымаясь, на высокий табурет и говорит с непобедимым российским акцентом:
— Коктайль Мартини, — затем поворачивается ко мне и улыбается с неожиданной в этом суровом лице благожелательностью:
— Ну, как Москва?
Голос у него негромкий и чуть надорванный, но густого и звонкого тембра. Этот полновесный голос внезапно приобретает такую мощь, что может покрыть рев тысячи орущих глоток.
И вместе с тем этот голос может произносить дружеские теплые слова:
— Как в Москве? Я еду пятнадцатого мая.
— Вы схватите грипп после парижской весны.
— Вы думаете? А литературная погода?
Он выговаривает слова негромко и медленно, но эта медлительность вдруг может обратиться в стремительность и легкость.
В его видимом, наружном спокойствии нервность и сокрушительный темперамент. Он может быть грубым, но когда он с вами говорит ласково, по-приятельски, — он делает с вами, что хочет. Он любит увлекать c собой людей, водить их за собой, втягивать в орбиту своей сложной, непонятной жизни, вовлекать их в свои неожиданные маршруты, неизвестно для чего водить их за собой, не отпуская от себя. И вы поддаетесь этому благожелательному насилию. Нельзя передать легкость и своеобразие его диалога, неожиданность интонаций, странного чередования угрюмой — сосредоточенности взгляда и жизнерадостности его усмешки.
Он допивает мутно-золотую жидкость из хрупкой стеклянной рюмки. Она дико выглядит в его большой, широкой руке. Если он пьет вино, то может пить много, и притом не пьянеет, как южанин, кавказец, родившийся у виноградной лозы.
— Вчера лег в одиннадцать. Странно? В Париже — и в одиннадцать уже в постели. Вот если рассказать, что Маяковский в Париже ложится в одиннадцать. Они думают: где вавилонить, как не в Париже?
Он тихонько стучит тростью о мрамор.
— Не платите. Я заплачу. Теперь это уже не важно. Денег все равно нет. Пойдем.
Он остановился на секунду у выхода. Лопоухий, похожий на крысенка критик из белой газеты заметался в ногах, и он отстраняется, и в этом движении оскорбительная вежливость и гадливость.
— ...прочитал мемуары Симановича, распутинского секретаря. Прелестная книжоночка. Через каждую страницу фраза вроде такой: «Я давно советовал его величеству Николаю дать ответственное министерство...». Вообще — история государства российского с точки зрения клубного арапа.
***
Он водит меня по бульвару, от витрины к витрине, из цветочного магазина в бильярдные и привокзальные кафе.
Он ходит ритмично и плавно, двигая плечами, рассматривает людей с высоты своего роста. И нет человека, который бы не оглянулся на него. Господин де Монзи прав: стоило показать эту пасть Парижу. Так он шагает, раздвигая ночную толпу квартала — туристов, продавцов картин, жуликов, сыщиков, бродяг, высматривая людей, иногда произнося вслух, что думает, иногда невнятно, слегка в нос, произнося отрывки четверостиший:
Ты будешь доволен собой и женой,
Твоей конституцией куцой...
— ...Кто это написал? Блок. Стыдитесь, а еще сами писали стихи. Вы любили Сашу Черного? «В лакированных копытах ржут пажи и роют гравий...» Хорошо. А теперь, какая стала дрянь. Тоже — Гейне...
Под электрической вывеской «Жокей» стоит круглолицый, близорукий человек в малиновой куртке и кэпи с золотыми галунами.
Он снимает кэпи и говорит по-русски:
— Добрый вечер, Владимир Владимирович.
— Здравствуйте. Вы это называете вечер?
Малиновый человечек отступает назад и снова кланяется, и мы входим.
Саксофон, похожая на кобру труба с клапанами, поет отвратно сладостно и грустно, с истерическими придыханиями и выразительностью человеческого голоса. Лихорадочная дробь барабана поясняет смысл мелодии, и плотная масса человеческих тел колышется в узком промежутке между столиками. Все колеблется, блестит, дышит и шепчется, покорное уговорам трубы и барабана. Острый запах вина, духов и пота втекает в ноздри, шуршание шелка о тело, густая, вязкая, приторная мелодия, лихорадочная, как пульс пьяного, барабанная дробь втекает в уши.
Он все слышит — шёпоты, шорохи, шуршание и музыку — и вот сейчас сонное и приятное волнение овладеет мозгом и наступит приятное оцепенение, почти физическое ощущение спокойствия, сладостной дремоты, опьянения.
Многоопытные кабатчики, хитроумные содержатели притона стоят на пороге, заложив руки за спину, и думают: «Можно ли остаться самим собой среди двухсот человек, пьяных от прикосновений через шелк и ткань, от вкусовых и слуховых ощущений — музыки и опьяняющих алкогольных смесей?
Что же вы думаете, дорогие гости, вам будет легко стряхнуть с себя обволакивающую липкую сладость? Что же вы думаете, это глупо придумано: тускло освещенный танцевальный притон, где только пьют и танцуют, и произносят слова, имеющие один смысл? Вы же люди из мяса и крови, кто бы вы ни были, вы понимаете, что значит желание и чего стоит искусство извлекать из металлической трубы мелодию, украденную у аргентинских пастухов и подслащённую кабацкими музыкантами...»
И вдруг стряхнуть с себя этот гипноз ритмов и отогнать бархатное, мутящее ум головокруженье и стать жестким, внимательным и насмешливым:
— Дарю вам новеллу. Пригодится почтенному прозаику новелла? Мирон Маркович!
Он обращается к круглолицему человеку в золотых галунах:
— Мирон Маркович... Познакомьтесь — Мирон Маркович Френкель, бывший бухгалтер Азовско-Донского банка в городе Житомире.
Человек в малиновом и галунах кланяется и протискивается между столиком и стеной:
— Когда в Россию, Мирон Маркович?
— Владимир Владимирович, вы же шутите...
— Боитесь?
— А что вы думаете...
— Чего же вы боитесь?
— Нет. Чего мне бояться. Я имею профессию.
— Чего же боитесь?
Человек в малиновой куртке облокачивается о наш стол и говорит, вытаращив голубые, близорукие глаза:
— Чего я боюсь? Как вам сказать... Если хотите, я боюсь в жизни только погромов...
***
И он рассказывает под мяуканье гавайских гитар, задыхаясь и глотая слова:
— «в Житомире в девятнадцатом году я служил в Азовско-Донском, бывшем Азовско-Донском банке. Петлюра зашел в город с пятницы на субботу. Нас было девять человек евреев в банке, и некоторые курьеры боялись за нас пострадать, и мы слышали, как убивали людей под окнами, и мы бегали, как мыши, по лестнице и лезли на крышу, но железо стучало под ногами так, что мы еще больше испугались. И тогда мы подумали, что сейчас придут гайдамаки и убьют нас всех вместе. И подумали: может быть, лучше выйти из банка и разойтись в разные стороны, кто-нибудь да спасется.
Я вышел из банка с Абрашей Могилевским — красавец, здоровый, как дом, двадцать два года, только что женатый и уже двое детей.
И мы потихонечку пошли по улице. На Сенной нас увидели и спрашивают, кто мы. А тут набежали торговки куролапницы, бабы с базара подняли крик: «Шо вы з ими балакаете? Рубайте их хлопци, гайдамаки!» Абраша открыл рот, но один его ударил шомполом, и сразу пошла кровь из уха и носа... Может быть, вам не интересно слушать? —он замигал близорукими глазами и продолжал, как бы извиняясь: — Я вижу все это и не могу сказать слова, и тут они уже снимают винтовки и вынимают сабли, и тут бы нас сразу убили, но подъехали два конных сечевика и говорят: «Громадяне, на улице нельзя убивать, ведите в комендатуру». И нас завели в бывшую часть; там лежали убитые, может быть, двести, а может быть, триста, бедные старые люди, — молодые ушли с большевиками. Первого начали убивать Абрашу Могилевского, он имел курчавые волосы и красные, полные губы и глаза, как маслины.
Я подошел к нему, заплакал и поцеловал его в губы, все лицо у него было в крови, потому что (вы помните?) его ударили раньше.
И подбежал один толстый, с бородой, в плюшевой кацавейке, и всадил ему штык в бок, и Абраша тут же упал. Тогда тот стал на него ногами и взял в обе руки винтовку и начал колоть сверху вниз штыком, как колют на улице лед в зимнее время. И тут они взялись за меня и спрашивают: «А ты кто, жид?» И тут я, сам не знаю как, сказал «нет» и показал бумажку: «Мирон Маркович Френкель, бухгалтер». «Мирон Маркович, — сказал толстый в кацавейке. — Мирон... а може, и не жид!» Я дал ему пятьсот гривен и пятьдесят карбованцев, как раз перед эвакуацией нам выдали жалованье, и они меня отпустили... И вот, что я вам скажу, приходится видеть и сльшать разных людей, понятно, из эмигрантов, бывает — из евреев, и когда они начинают: «большевики» и то, се; я смотрю на них и думаю: сукины дети, ах, сукины дети! Я имел на голове деникинщину и петлюровщину, Струка и Удовиченко, и что я вижу? Большевики у нас не первый год, много лет, да?.. Но скажите мне, что у них пролилась одна капля татарской, армянской, еврейской крови от рук погромщиков? Скажите мне это, и я вам плюну в глаза, сукины вы дети... Я рву на себе волосы, что послушал вас и из-за вас пропадаю в этом сволочном вашем городе Париже...»
Он выпрямился и снял кэпи с надписью «Жокей»:
— Я кончил коммерческое училище в Каменец-Подольске с золотой медалью, я опытный бухгалтер и вот, — он опять показал на кэпи, каждая девка может посылать меня в аптеку за предохранителями. «Шассэр», посыльный бара «Жокей», хорошее положение? Этого мне желали родители? «Бонжур, мэсье, дам... оревуар, мсье, дам; мерси, мсье, дам...» А вы спрашиваете, чего я боюсь. Я ничего не боюсь, но каждую ночь плачу во сне... Мерси, мсье, дам...
Он спрятал в рукав кредитку.
***
Я поблагодарил за новеллу. Она правдива, несмотря на урчание саксофонов, несмотря на мяуканье гавайских гитар и весь этот нестерпимый для рассказа Мирона Марковича фон ночного Монпарнаса. Она правдива, потому что тот, кому я обязан этой новеллой, умел находить чудовищные реальности в искусственном и надуманном, умел разоблачать иллюзии, высматривать и срывать с людей галуны.
***
Лев Никулин. Публикуется по журналу «30 дней», № 12 за 1932 год.
Из собрания МИРА коллекция