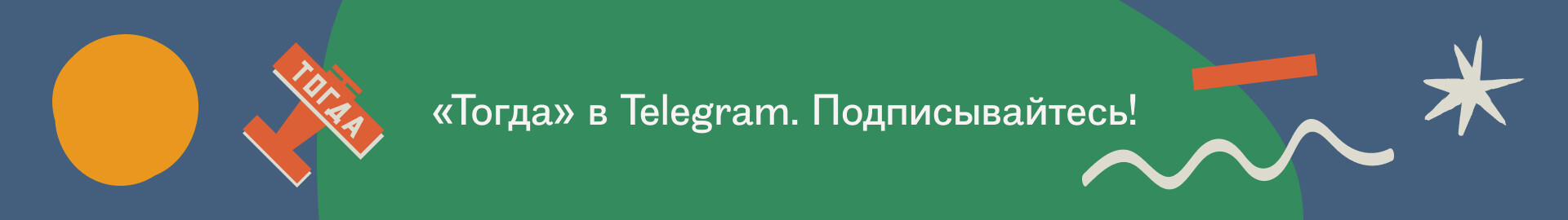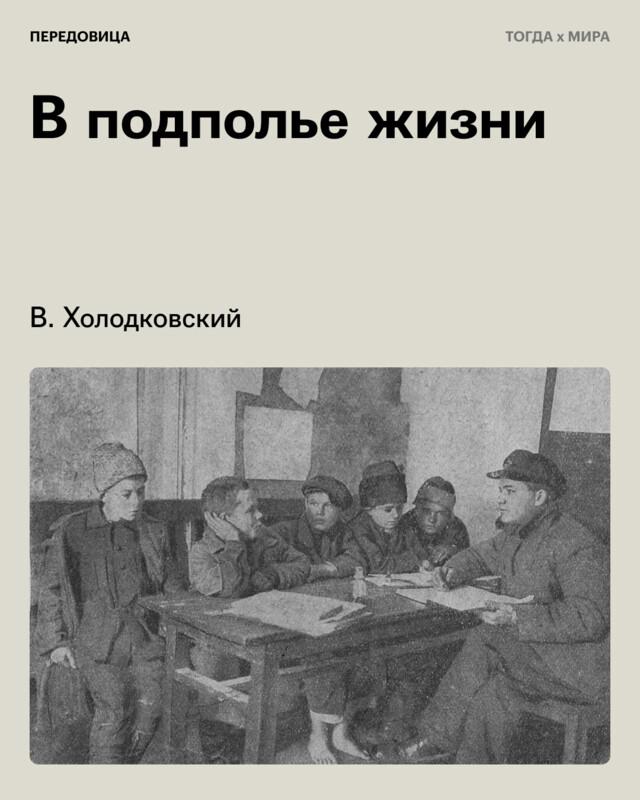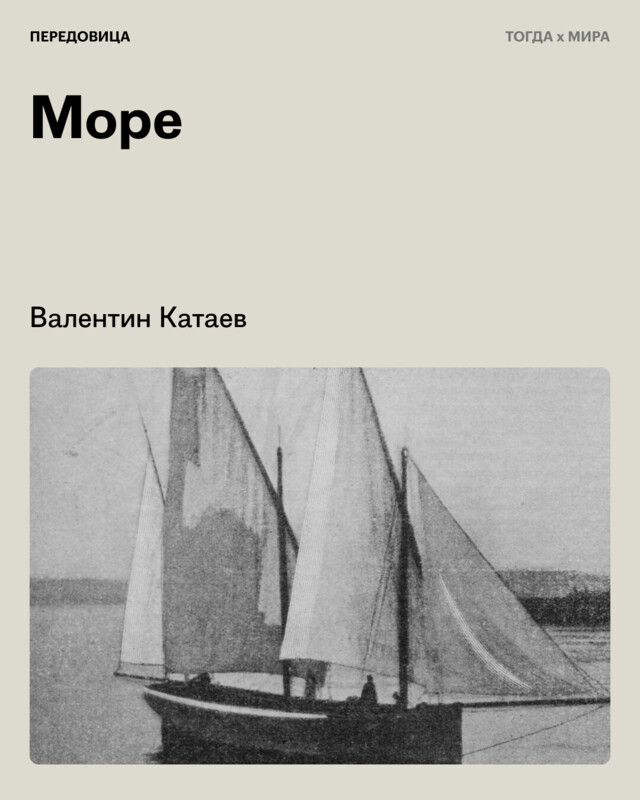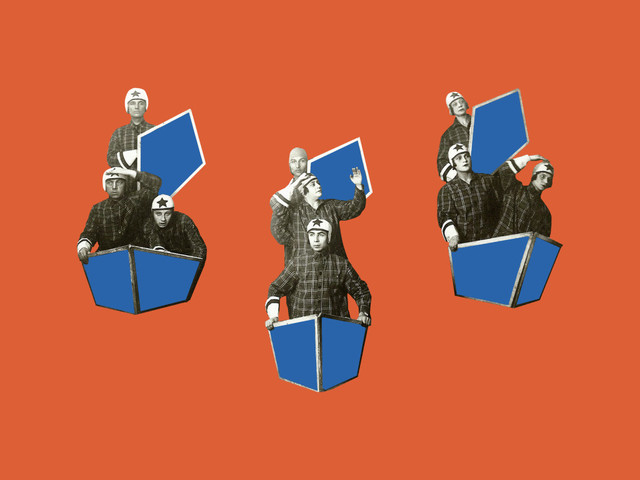Зимние дни
Текст: Николай Никитин
Рисунки: Василий Сварог
Публикуется по журналу «Красная нива», № 4 за 1926 год. МИРА коллекция
***

Как приходит зима в город, который создан только двести лет тому назад на старых кургузых мхах, на диких болотах, у широкой реки, у корявых берез. Стоит лишь поднажать ветрам с Балтики, и тяжелые, темно-лиловые, как чугун, волны северного моря бросятся в город, в улицы, площади, переулки, проспекты, линии, роты, дворы. Так, каждую осень этот город, построенный так же прекрасно, как театральная сцена, город, где каждый угол может соперничать с необыкновенной декорацией, внимательно наблюдает за морем, дежурит Пулково, отмечая малейшие колебания атмосферы, радио Детского Села ведут сводки радиограмм, говорящих о поднятии воды в остальных частях земли, следит за морем Порт, и каждый намек об опасности передается, как молния, по периферии города, стоящего на ничем и возникшего из ничего.
Каждый фут поднявшейся воды строго отмерен, и каждый житель этого города должен его отметить. Петропавловская крепость, вставшая островом на разливе Невы, кричит об этом по всему городу со старых каменных верков и житель Гавани, Васильевского Острова и Питерской Стороны опасливо подымает занавеску и, отсчитывая удары пушки, приглядывается к темному, упавшему прямо к крышам чугунному небу.
Каждый удар родит здесь тревогу. Мы знаем, как умеет всплывать этот город, внезапно наполняющийся волнами, точно он выстроен не из камней, а из решетчатой сетки, где вода сочится из каждой щели, из каждого камня, из каждой трещины, когда подвалы домов вдруг становятся источниками воды и фонтаны хлещут из канализационных труб, а щедрые каналы и речонки, сестры Невы, десятком поясов перерезающие город, вдруг забыв жестокую бронь гранита, заковавшего их берега, перелившись через, победно мчатся с набережных в улицы и дворы.
Эта опасность ожидается городом каждую осень. Небо тревожно с сентября по ноябрь. Ветер, влекущий за собою море в город, главный враг; его внимательно караулят с каждой сторожевой башни в городе. Этот ветер у нас — первый предвестник зимы.
Тысячи красок, раскрашивающих острова так, как не сумеет раскрасить свои картины самый прихотливый художник, все золото, весь багрянец, все, от самого яркого до тусклого и ленивого, все, на что способна природа — вдруг слетит внезапно под напором тяжелого, как молот, ветра, голые деревья протянут лапы в серое, солдатское небо, и заморосит сверху упрямая кисея, изморозь, «питерский дождик». вдруг заледенит и покроется сразу все тонкой порошей, закостенеют тонкие лужи и лужицы, мальчишка вытащит коньки, извозчик задумается о санках, застынет рябь «питерских каналов», поплывет сало и редкие серые корки предупредят о морозе и льде... И вдруг через час — гольфштрем с моря распустит все в жидкую коричневую кашицу, отпотеют дома, заслезятся витрины и стекла, засыреют праздничные флаги, заскользят лошади, падая на скользких, как апельсинная корка, торцах, мгла наполнит улицы, и розовый в вечернем электричестве туман, как испарина больного, осядет на людей, на здания, на камни. И весь город в этом тумане, уходя шпилями, крышами, соборами в пропасть, вдруг потянется вверх, в розовую призрачную мглу, и обыватель, еще живущий в нелепой гоголевской шинели, вдруг узрев призрачность своего существования, поверит и в «чиновника-мертвеца», и в ангелов на пружинах...
По вечерам, тая, спускается нежный белеющий пух. Его ровная пелена мягко постилает город, после полуночи движения мало, и весь город, улицы, переулки, площади, стены, колонны, окна-голубеют под матовым светом дуговых круглых шаров, высоко привешенных к ажурным фонарным столбам, недвижно — как памятники караулят на углах подвыпивших пешеходов извозчики, голубой снег заносит кургузый армяк и допотопную ямщицкую тулью, и допотопную лошаденку, низко опустившую морду, будто к узде привесили ей пудовую гирю. Кто же поедет... Тихий человек, если уж и загулял, так норовит вернуться на трамвае, а если, махнув рукой и на жену, и на свою веселую сторонку, и на жалованье 5-го разряда, вдруг раскутится окончательно встретив закадычного друга, пойдет, как говорят, «ва-банк» и, задрав потертую шапченку, лихо промелькнет в вертящейся двери «Бара», — так ведь там он рад оставить у дымных столиков последний подлый полтинник, украденный у пылкой супруги, и побредет домой за Невскую, или в Пески, или в Измайловские роты, мечтательно, пешочком, покачиваясь между тумбами, фонарями, панелями, будто летучий голландец, затерявшись в рифах.
И единственный след останется от него — потерянная на каком-нибудь злосчастном лугу тяжелая калоша. Все остальное, да калошу эту заметет к утру ленивый. голубой снег.
А стройный город, где гениальные зодчие чуть ли не каждый угол построили, как архитектурную декорацию, поголубев и подмерзнув, снова затеплеет в дневные часы, и голубые краски, слиняв, превратятся в желтые; и к вечеру заколотятся.
Так до ночи, чтобы ночью снова им поголубеть.
***
Какая же здесь зима? Правда, вдруг выдастся нежданная неделя, да вдруг затянется на месяц, и простоит морозец, и наладится солидный санный путь, и армяки на облучках, сняв шапки, вопреки всякой антирелигиозной пропаганде, поискав напрасно образа, перекрестятся на шершавый зад своего вислоухого коня, и будто от этого опять погода размокропогодит, обмякнет небо, обвиснут тучи, улицы станут жидкой кашей, и даже жиже, как гречневая размазня у экономной хозяйки, выйдут дворники с широкими лопатами и метлами, нагребут кучи у сточных колодцев, а рассыревшие улицы снова покажут торцы, гранит и камни, и веселый булыжник заблестит по-осеннему слезами под вечерним огнем.

Где-то там, в псковских пустошах, у ладожских озер, на Оке у Рязани, гудит вьюга и дерет кожу российский мороз, а здесь в городе, вставшем у самого залива, в 15-ти верстах от моря, случайный ветер делает то, что он хочет, здесь он полный хозяин, здесь именно подлинная Евразия, ни Европа, ни Азия, — здесь никогда не угадаешь погоды.
Здесь не принято замечать погоды. Люди сами по себе, а погода пусть живет так, как ей угодно.
День — в банках, конторах, на бирже, на пристани, в порту, и в пятый час — решительный час вдруг набухают улицы, и пешеходы переполняют трехверстный проспект от Невской Лавры до остроконечного Адмиралтейства, словно кто высыпал их, как грибы из широкого кузова. Горят магазины, у касс растут очереди, люднеет сразу Гостиный Двор. Жадные дамы готовы, кажется, глазами продырявить магазинные стекла. Покупки всяких размеров оттягивают руки. Но иной франт, по старой «питерской» привычке, беспечно фланирует ради своего удовольствия в предобеденный час вдоль освещенных шумных галерей, бесцеремонно заглядывает в мелькающие шляпки, солидно постукивает концом своей трости о гладкий тротуар галереи, так что подумаешь — уж не идет ли за ним какой-нибудь другой — тоже франт и соперник, в кавалергардской шинели, чуть слышно позвякивающий малиновой шпорой... Нет, то было в старом Санкт-Петербурге — важном городе генералов, чиновников и гвардейских солдат... Теперь же здесь только губерния, да и совсем другая губерния. Прогудели гудки на заводах, трамваи везут к Гостиному иную публику — пошли красные платочки, короткие рабочие ватные куртки, суконная шляпа — панамка, годная на все сезоны, торопливые взгляды и торопливый деловой шаг. Сюда пришли не болтаться, не для прогулок, не для разглядывания выставок от нечего делать, а купить и ехать к себе на окраину с обновками.
***
Вечерами зажгутся огни кино, вездесущая Мэри Пикфорд смеется с плакатов и в радостном возбужденном свете вечера несутся звонкие трамваи.
Освещены старинные колоннады театров старыми театральными фонарями, кричат афиши, у Филармонии стоят толпы, там неизменно заезжие музыканты пленяют русский слух. Концертные поездки заграничных знаменитостей издавна начинались с «Петербурга» — так в большинстве случаев и теперь. Здесь воспитывали музыкантов для всей страны, отсюда пошла вся русская музыкальная культура, здесь умеют слушать музыку и любят ее восторженно, до забвения, до смешного.
Концерт — кажется настоящим праздником. Шумит огромный зал Филармонии, хрустальный свет десятка тяжелых люстр падает на мягкий красный бархат зала, как золотое вино. Галереи и хоры гудят, точно наполненные тысячами пчел ульи. В коридорах непрестанным потоком, которого, кажется, ничем не остановишь, пробивает дорогу молодежь. Но вот вспыхнул белый свет над широкой эстрадой, мелькнула играя белизной из фрака рубашка концертанта — и стих шумный зал.
Сегодня вечер сонат: Бах, Бетховен, Шопен.

Кусками, скапливаясь где-то у потолка, падает музыка в зал. Вы наблюдаете в зале начинают «переживать». Вот там следят по большим и малым клавирам, в другом углу призадумался угрюмый человек. Барышни, упершись глазами в пальцы концертанта, так и застыли в столбняке. Заснул в кресле румяный инженер.
Старая дама вытянула шею вперед, точно старинный гвардейский солдат, рапортующий своему командиру. А другая, ее соседка, совсем прощается с нашим грешным миром, она вздыхает, роняет голову, будто носовой платок, оттягивает губы, кан грудной ребенок, и вот-вот сгорит от музыки, рассыпется, оставив в кресле вместо себя кусочек золы.
Но когда доходит дело до третьей части сонаты Шопена — вдруг в зале зашипел, придушенный, точно змея, шопот, всколыхнулись красные, бархатные ряды, кто-то крикнул, с эстрады падает похоронный марш, и два человека, протискиваясь сквозь кресла, выносят старика в обмороке.
— Пропустите, пропустите... Доктора, скорее доктора!
На другой день стало известно-что старик, с которым приключился обморок, —известный адвокат цивилист. Через день газеты оповестили об его смерти.
***
И вот опять ночь. Голубые огни «Бара», стеклянная мельница-дверь, залитые столики, несвежие скатерти, оркестры в разных углах, и в верхних залах, и в подвале. Барышни в белых фартуках с расстегаями на подносах, и пиво, нескончаемое пиво... Маэстро, как петух, гордо дирижирующий джаз-бандом, покоритель сердец всех здешних дам. Три десятка извозчиков, дожидающих седоков.
— А вот извольте прокачу, нам по дороге, дорогой гражданин.
Два затрепанных автомобиля.

Колька-шоффер, у которого весь город умещается в шершавой ладони, а кепка еле держится на разбойной голове.
— И-их, еще с портфелем, тоже народ, норовит за полтинник да с бархатом, паcсажиры, вам бы в теплушках, ездить, милые товарищи.
Колька презирает весь мир и всех людей. Дня он не знает. Он выезжает только на ночь — это «ночной» шофёр. В кармане у него на случай бережется шпаллер. В мире для него существуют только три вещи — машина, вино и пассажиры. Он вечно дежурит у кабаков.
***
В три часа кончается жизнь совсем, тушатся последние огни. И город при взморье спит до утренних заводских гудков на окраинах. Там подымаются раньше всех и раньше всех там начинается жизнь!